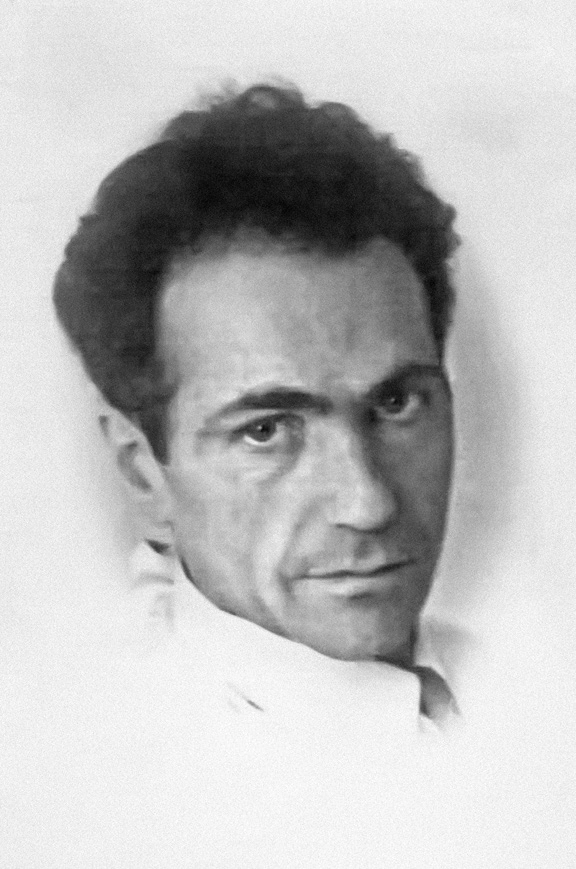[Воспоминания]
Дедушка жил у второго сына, папиного брата, у которого были жена и двое детей. Иногда дедушка приезжал к нам в гости. Ходили мы с ним по местечку. Городок у нас был небольшой: Новый город и Старый город. В Новом уже были новые дома. А в Старом — местечко, там в основном жили старики, местечковые люди. Дедушка ходил туда к этим старикам. Я помню, как они разговаривали, и дедушка объяснял им: «Вот это слово на иврите нужно понимать вот так, а вот это вот так».
Он уже был старенький, занимался ли он раньше каким-то делом — не знаю. У папиного брата, кажется, магазин был, но я уже не помню толком. А у отца — аптека. Бандиты пришли — и все это кончилось.
*
В сельской местности, недалеко от нашего города, жил один из маминых братьев. У него там коровы, лошади были... Вот оттуда все продукты в основном и приносили. Сами мы ничего не выращивали. Возле дома даже цветов не выращивали, приусадебного участка не было. Выходишь — и сразу попадаешь на улицу. Не могу сказать, что мы были богачами. Мне казалось, все так же примерно жили. Дома никаких обязанностей у меня не было. Порядок наводила домработница. В магазин за продуктами тоже не отправляли. Я должен был только хорошо учиться. Иногда я заходил к отцу в аптеку, но помогать не помогал.
Моя задача была — хорошо учиться.
*
Сначала я учился в ивритской школе, где не разрешалось даже на идиш разговаривать, хотя дома говорили на идиш. А потом, когда перешёл в литовскую гимназию, вот там и встретился в какой-то степени с антисемитизмом. Пришла советская власть, и местечковые жители стали массово отправлять детей в советские школы учиться. Однажды я, как обычно, пошёл после звонка на перемену. Иду по коридору. Стоят два литовца и парень моих лет, еврей. И вдруг он мне говорит: «Ты жид». Я на него посмотрел: «Ты в своем уме?» А он стоит — чуть не трясется. Я понял, в чём дело. Его заставили это сделать. И тогда я одного литовца с размаху ударил. Он меня нагоняет — и кулаком в нос. Естественно, кровь пошла. А я в гимназию же на велосипеде ездил — и не могу кровь остановить, держу кое-как, сажусь на велосипед, еду в аптеку к папе.
Папа спросил прямо: «По еврейском вопросу?» Он сразу всё понял. Я говорю: «Да». Он меня положил, что-то там дал, кровотечение остановил. А на следующий день начались разбирательства. Пришёл завуч на меня жаловаться, что я литовца ударил. Папа говорит: «Я ему сказал: если будут задевать еврейский вопрос, не задумывайся, сразу бей любого». Завуч не нашёлся, что ответить, и ушёл.
*
Это было ночью [14 июня 1941]. В 4 утра, по-моему, два или три литовца пришли. Я мальчишкой был, о чём-то они там с отцом говорили, что-то делали, смотрели. И потом сказали: «Пошли». И нас увели. Не мгновенно, нет, они там пару часов потратили, всё посмотрели. Вещи нам разрешили взять какие-то. Я собирал свои вещи сам. Одежду, какие-то игрушки я взял, не помню... Те люди ждали в доме, пока мы соберёмся. Так вышло, что мы только вдвоём с отцом были. Мама в это время в Каунас уехала. У неё были какие-то дела в университете. Как-то она тут же приехала утром, забрала часть вещей, и как раз ко мне, вдогонку, сама в вагон села. Как бы она ребёнка одного оставила?
Я не плакал. Отец, конечно, переживал. Ничего не говорил. Он ничего не знал наверняка.
Нас с мамой посадили в вагон «С», ссыльные, а отца — в вагон «А», арестованные.
Сначала ехали одним составом, потом вагоны разделили, и в Котлас поехали только ссыльные. В Котласе погрузили всех на баржи и так повезли в Коми АССР. Но мы ещё не знали, что это будет Коми.
*
Я, тринадцатилетний, в воде, осенью во льду, без путной обуви, работал на лесосплаве. Почему работал? Надо было получить хлебную карточку, а другой работы не было. Хлебная карточка была по категории: иждивенцы, рабочие и служащие. Мама не работала. Она болела, и получилось, что только я могу работать. Она получала хлебную карточку, и я хлебную карточку. Она как иждивенец получала 300 грамм хлеба. А я, как служащий, около килограмма хлеба.
*
Была в той ссылке врач, Аронсон, она вместе с моим отцом в университете училась. Узнала меня на улице, разговорились. А когда я на лесосплаве работал, тяжёлая работа была, и я надорвался немного. Пошёл к ней, может ли освободить. Она говорит: «Ты знаешь, я тебя освободить не могу, потому что у меня норма два человека в день, больше не имею права. Но ты молодой, просто плюнь на это дело». И я плюнул, пару дней сидел. Табельщица меня спрашивает: «Есть освобождение?» Я говорю: «Есть».
Но она узнала, что нет. Ну и тут приехал суд: судья, два заседателя. Прогульщиков наказывали по-всякому. Доходит очередь до меня. Судья спрашивает год рождения. «28-й». Он: «Вы можете это доказать?» А у меня ничего нет из документов. Рядом сидели литовки, я их попросил: «Поддержите меня по-литовски?» Они говорят: «А мы его вот с таких лет знаем. Да, он такого-то года рождения». Тогда и постановили: «Отказать в иске ввиду несовершеннолетия».
*
Когда мама умерла, я работал. На лесосплаве летом делали боны, надо было всё крепить. С работы прихожу, мама лежала в больнице в это время… В посёлке была больница. Лазарет, палаты какие-то. И я как мог — к ней забегал, на пару слов, поговорить, как она себя чувствует. И я тут посмотрел, она себя плохо чувствует, думаю, к чёртовой матери, не пойду на работу, с мамой буду. Приходит начальник запани, говорит, слушай, выручай, некому. Женщины ведь кругом. «Сделаем там на бонах, и потом хоть два дня с матерью сиди». Уговорил меня. Поехали. А пока делали, всё это очень долго, белые ночи. Приезжаем, часиков в восемь вечера, в магазин покушать, за хлебом, продавец ещё сидит там. Мужики на меня так смотрят, я не могу понять, в чём дело. И потом дочь врача проходит, она на меня смотрит. Я спрашиваю: «Слушай, как мама?» Она молчит, потом сказала: «Умерла». Я побежал. Утром прихожу в контору, говорю: «Ну что ж, помогите. Я вас выручил, сейчас надо же похоронить». Ни гроба, ни досок, ничего же нет. Нашли кое-что, чего-то там, ну и похоронили мы маму. Там.
У ссыльных было своё кладбище. И латышей они хоронили отдельно на своём латышском кладбище. Но мы хоронили на сельском. Там, где мы находились, село было. Я даже не знаю, были ли похоронены кто-то из ссыльных ещё, но похоронили мою маму. Я кол вставил, написал. Потом так я и не нашёл больше, где мама…
*
После лагеря папа пошёл в Красноярское аптекоуправление. У него был диплом об окончании Каунасского университета, на литовском и на русском языках. Он представился: «Я провизор». А в то время их здесь почти не было, и его направили на север, в аптеку. Он приехал на работу, и конечно, командовал там: то надо, это надо и как что делать, какие лекарства готовить... Этим он и занимался. Навёл порядок: ядовитые — здесь, полуядовитые — здесь... Папа любил, чтобы всё было, как следует. Иногда дежурил в аптеке круглосуточно. Женщины были замужние, не хотели. А он оставался, дежурил.
*
Можно считать, я знал шесть языков. Дома в нашей семье разговаривали на идиш, мы же евреи. На литовском говорила обслуга, да и все кругом. А ещё были русские, немцы, их речь я тоже слышал, но специально не учил... Когда я подрос, перешёл в ивритскую школу, там мы учились на иврите. В этой школе нам даже запрещали на идише разговаривать, можно было только на иврите. Учился я 6 лет, сейчас уже почти всё забыл. Когда сегодня хожу в синагогу, только отдельные слова разбираю. А когда в Коми нас загнали, мы с моим другом Борей Фогельманом искали что-то купить покушать — а местные нас и слышать не хотели, собак спускали. Русский мы тоже почти не понимали. Что тут делать? Надо учить язык коми. В Коми в каждом районе по-своему немножко говорили. Например, картошка — где-то называлась «картофель», где-то «картопель», где-то «яблок» и ещё как-то... И это всё картошка, в каждом районе по-разному. Время прошло, мы уже немного язык освоили, стучимся к местным, нас спрашивают: «Ты коми али рочь?» То есть — ты коми или русский? Мы говорим: «Коми». Тогда нас уже начали пускать в дом, могли продать, что нужно. На сегодняшний день я могу на идише разговаривать. И литовский помню. Когда сюда приезжала правнучка моя, Грета, внучка Витаса, мы с ней по-литовски разговаривали, она русский не знала. Я её спросил: «Ну, как мой литовский?» Она ответила: «Без акцента».
*
Я не представлял, что такое зыряне. Я же мальчишкой был, понятия не имел. Они не хотели с нами общаться. Пришлось учить их язык. Как могли, так и запоминали. Тогда стали для них «своими». Нам с ними нечего было делить. У нас своё, хлеб на карточку получали, они по-своему жили в деревнях, мы не общались путём. Их тоже советская власть уже обобрала. И они, где надо было, приезжали. Обменять что-нибудь, продать, из вещей у них купить, всяко бывало. В Коми было сослано очень много людей в ссылку. Где-то получалось, что между коми и не-коми семья складывалась. Всяко бывало в Коми.
*
У папы был брат Арон. Имя жены папиного брата я не помню. У них было два сына. Они были расстреляны во время войны. У мамы было четыре брата. Три брата — врачи. Меир, Шмерл, третий уехал в Израиль, я забыл его имя, и был ещё Хаим. Тот, кто уехал в Израиль, — и выжил, и прославился даже в чём-то.
Меир женился на литовке. Её звали Петронеля. Её брат был знаменитым литовским писателем — Винцас Креве-Мицкявичюс. Когда бандиты их разлучили, она своему мужу в течение недели носила кушать. Она литовка, поэтому они её не трогали. Еду ему передавали. На седьмой день приходит — а они у неё уже не берут передачу. В чём дело? «А он наступил на тротуар, и мы его расстреляли».
Шмерл — почти то же самое. Его жена была детским врачом. Когда советская власть пришла в Литву, он был в Вильнюсе, по делам. И 21 июня 1941 года он узнаёт, что происходит, и бежит домой. Приезжает — а жена уже успела забрать двух дочерей и бабушку, сбежала в Казахстан. А он посмотрел, подумал: бандиты уже идут, это неизбежно, куда деваться? И он решил отравиться. У врача всегда яды найдутся. Его нашли, выходили и только потом замучили до смерти.
*
Я когда приехал в Красноярск, ни с кем близко не общался. И разговорились однажды с соседом, он говорит: «Я хожу в синагогу, пойдём?». Ну и я пошёл.
Я из рода коэнов, мой дед по отцу был коэном. Я пришёл в синагогу, о себе рассказал, раввин позадавал мне вопросы, проверил... И я стал ходить. Я сейчас по субботам всегда хожу в синагогу утром. Кроме того, в праздники, но мне после застолья добираться домой далеко. Поэтому почти не хожу. Иногда раввин требует, чтобы мы приходили, надо чтобы обязательно 10 человек для молитвы в праздник присутствовали. Если он требует, чтобы пришли среди недели, я иду.
*
Я еврей. Не стыжусь, что я еврей, и, может быть, даже горжусь этим. В Красноярске очень много полуевреев — тех, кто по отцу. В институтах, везде и всюду — очень много. Я лично никогда не скрывал, что я еврей. Даже иногда, может быть, и не надо было, я говорил: «Да, я еврей». Я ничего плохого никому не делал, ничего против закона не делал, так что стесняться мне нечего. И вообще, Иисус Христос кто был, а? Еврей.