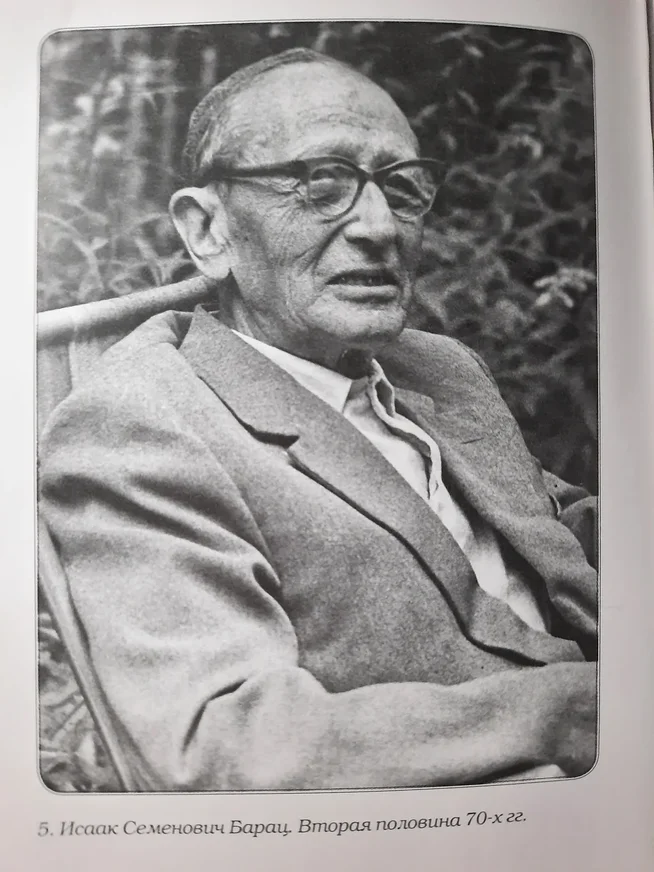Пути-дороги
Вам, дорогие мои Рая и Сюзик, я адресую эти строки, эти, если можно так выразиться «повесть временных лет». Вам, потому что только вы поймете все, что здесь записано, поймете и прочувствуете всем сердцем своим, всей душой. Я старше вас и больше вас видел, но и вы достаточно видели, видели и слышали. Достаточно для того, чтобы понять все то, что вы прочтете, все то, что так похоже на прожитую лично вами жизнь, особенно, на детство ваше, на молодость.
Светлой памяти родители наши сумели воспитать всех нас в духе взаимной любви, дружбы и преданности друг другу. Они привили нам эти неоценимые качества на всю жизнь, и я до сих пор знаю и чувствую, что у меня есть сестра, есть брат – близкие, родные, благородные люди. Прочтите же, дорогие мои, эти строки. Прочтите, вспомните и свою молодость, которая во многом схожа с моей. Во многом и в главном.
* * *
Детство, отрочество, юность... Счастливая, невозвратимая пора, полная радужных надежд и упований, борьбы за будущее, за то, чтобы завоевать достойное место под луной. Судьба моя сложилась так, что эта золотая пора в жизни каждого человека, эти годы становления, обернулись для меня не так, как хотелось бы, обернулись теневой стороной своей. Нет, они и мне запомнились на всю жизнь и многое сберег в памяти, вырвал и сохранил. Они у меня были годами познания окружающего меня загадочного, прекрасного мира, годами светлых надежд и дерзаний. Они и мне принесли много радости, раскрывали предо мною широкие, порой не понятные, горизонты, приподымали завесу над тайнами тоже называется житейским морем. Море это, как и любое море порою спокойное, тихое, ласкающее взор, временами бывает оно бурным, волнуется и штормит. Гуляют тогда по морю этому огромные грозные волны, увенчанные седыми гребнями. И плохо приходится кораблю, очутившемуся в таком кипящем котле. Лютые волны, яростные в своей злобе, набрасываются на него со всей своей стихийной силой. Того и гляди сомкнут твой корабль, превратят в щепу, и ты на дне этой бушующей, не знающей пощады, пучины.
Тяжело бывало мне в такую непогоду, в такие штормы.
Так уж сложилось моя судьба, что с четырнадцати лет, по сути говоря, еще мальчиком, я жил вне родительского дома, один в этом бурном житейском море. И не на корабле, а на утлом челноке, без руля и без ветрил, без жизненного опыта, без знаний «кораблевождения», пустился я в плавание, предоставленный самому себе. Родители мои, честные благородные люди, безгранично любившие нас, детей своих, не могли, по бедности своей, оказывать мне необходимую помощь. Они с трудом, с большим трудом, посылал мне на жизнь десять рублей в месяц. Маловато было, совсем мало! Увы, они и этого не имели возможности делать, это было для них непосильно, это было как подвиг. Я хорошо все понимал, своими глазами видел это. Видел, как они напрягали все свои силы, чтобы помочь мне, чтобы дать образование и вывести в люди. И я до сих пор бесконечно благодарен им за помощь, свято чту их память и высоко ценю все, что они сделали для меня.
Детство... Помню маленькое местечко Верба на Волыни, приютившееся на краю «мужицкого» села. Большая, круглая площадь – майдан, а вокруг двадцать-тридцать домиков, низеньких, с подслеповатыми окошками, глядевшими на окружавший их убогий, серый мир. Только две-три из этих построек действительно можно было назвать домами – в них жили местечковые богачи, местные воротилы, командовавшие всеми делами местечка. Одного из них помню. Его звали Йехиелом, Йехиел Вербер, по названию местечка – Верба. Это был высокий, широкий в плечах, раздобревший старик, с серебряно-белой длиной и пышной бородой, маленькими, будто выглядывавшими из нор, глазами, нависшими над ними седыми бровями, крупным ноздреватым носом и красными прожилками на широком полном лице. К нему, к этому богачу, заходило, бывало, и местное начальство, пристав и урядник, чтобы отведать еврейскую фаршированную рыбу и выпить пасхальную водку «пейсаховку». Два раза в году, на праздники Пасхи и Кущей богач со своими домочадцами усаживался у себя на большой открытой веранде, ставил перед собой мешок с орехами и швыряя их пригоршнями на землю впереди себя. А мы, дети бедных родителей, мальчики и девочки, толпились вокруг, собирали эти «подарки», толкали друг друга, стараясь набрать как можно больше. Кругом сутолока, толкотня, галдеж, не все у нас, ребят, обходилось мирно, бывали и слезы. А богач сидел на веранде со своей семьей и смеялся, гладя на эту картину. Сидел, развалившись в кресле, с царственной осанкой, как патриарх, как праотец наш Авраам. Умилительная картина, не правда ли?
Остальные дома, старые, ветхие, некоторые вросшие в землю, с тесовыми крышами, обросшими серо-зеленым мхом, с покривившимися ставенками и местами прогнившими ступеньками крыльца. В них ютились бедные, даже нищие, еврейские семьи, влачившие жалкое существование в этом заброшенном уголке еврейского гетто. Бесправные, обездоленные, без всяких средств к существованию, они маялись, искали заработки, которых не было, не зная сегодня, чем они накормят детей своих и что сами будут есть завтра. Но они цеплялись за жизнь, они боролись за свое существование, верили и молились всемогущему, грозному еврейскому богу Саваофу. Молили его, чтобы он сказал им милость, взял их под высокую защиту свою и ниспослал им хотя бы какой-нибудь заработок, какой-нибудь источник существования. Они говорили ему словами молитвы: «Милостивый бог наш, да возвеличится, да святится имя твое. Взгляни с высоты святого престола своего на нас, нищих, убогих рабов твоих. Окажи нам милость свою, призрей нас, обрати внимание на муки наши, помоги бедным сынам твоим. Не оставь нас в старости нашей. Помилуй нас». Увы, они молились, но благодать божия не заглядывала в обветшалые жилища их, и они продолжали мучиться – мучились и молились, молились и мучились.
Вот там, в этом убогом местечке, в такой среде, я родился и прожил до семи лет с мамой, бабушкой и тетей своей, маминой сестрой. Тетя занимала одну половину дома, мы с мамой и бабушкой — другую. В каждой половине по одной комнате и кухне. Отец служил в городе Ровно и приезжал к нам два раза в году на праздники пасхи и кущей. В такие дни приходили к нам в гости знакомые наши. Приходили вечером, сидели и беседовали. Я взбирался на колени к отцу, уютно устраивался и наслаждался тем, что и у меня, как у других мальчиков, есть отец, такой молодой, такой добрый, такой ласковый. Так я и засыпал на его руках, не хотел уходить от него в свою кроватку: ведь я редко видел его. Никаких угощений гостям не подавалось, единственное, чем их потчевали, – это белые арбузовые семечки, которые ставились на стол в нескольких тарелках. Богато, не правда ли? { еда } Один только раз помню, на праздник Кущей зашел к нам днем после синагоги в день, посвященный празднику торы, – «симхас тойре» – резник, которого звали реб Липой. Отец наш пригласил его к нам на «кидуш» – стопку водки с бисквитным печеньем, которое мокали в водку. Этот реб Липа и сейчас, как живой, стоит перед моими глазами. Выше среднего роста, худой, с обвислыми плечами, в «праздничной», шелковой, иссеченной временем, обтрепанной на рукавах и полах, свитке. Черные волосы его изрядно посеребрены, особенно на висках, бородка с проседью, лицо желтое, изможденное, уставшее от гнета беспросветной нищеты, сплошь иссеченное морщинами, и черные, глубоко сидящие голодные глаза, сквозь которые проступает, как туманная пелена, навеки застывшая скорбь. Праздник торы отмечается осенью. Несколько дней подряд лил дождь, и на улице,-непроходимая липкая грязь по колени. Реб Липа выпил одну — две рюмки водки и, много ли такому «герою» нужно, опьянел. Нет, он не был, сохрани бог, пьян, он был просто, как говорится навеселе. В такой радостный великий праздник, как день, в который бог даровал евреямтору, даже строгие библейские законы рекомендуют всем верующим пить и веселиться. И вот реб Липа вышел на улицу и отправился домой. Ему было весело от выпитых двух рюмок, и он стал танцевать среди грязи. Прохожие крестьяне, их тогда называли мужиками, собрались вокруг него, от души смеялись и подзадоривали его. Они говорили друг другу: «Дывысь, кума, жид пьяный танцюе». А он, резник Липа, продолжал танцевать, приговаривая: «Ой, як мягко танцювати!» Еще бы не было мягко, кругом такая грязь. Что может быть мягче?!
Да много я видел в детстве вокруг себя бедности, много нищеты и горя людского. Господи, как ты мог равнодушно смотреть на эти человеческие страдания, на эти муки сыновей и дочерей своих, которым ты по «милосердию» твоему, по «милости» твоей уготовил ад не в преисподней, а здесь, на земле твоей? Или нет тебя вовсе, ни на земле, ни в небесах?
Нет, я не смогу описать всего этого горя, которое я видел вокруг себя на каждом шагу. У меня не хватает для этого умения, недостает слов. Да этого и не требуется. Возьмите и почитайте Шолом-Алейхема , этого певца еврейской бедноты. Почитайте такие его рассказы, как «Легкий пост», «Гуси», «Ханукальные деньги», «Горшок» и много других замечательных произведений. Лучше не напишешь. Я и теперь, когда читаю его рассказы, заливаюсь слезами. Наше нынешнее молодое поколение не поймет этого, быть может, и не поверит, что было такое. А вы, дорогие мои, брат и сестра, хорошо поймете. Вы поверите, потому что многое успели повидать так же, как и я, собственными глазами своими. Хватило и вам. Все это я видел в детстве своем и хотя мало что понимал, но горе людское прочувствовал. Я видел крестные ходы, которые направлялись из города Житомира в Почаевскую лавру, славившуюся своей святостью, куда переносили на руках пешим порядком икону непорочной божьей матери. Дорога в Почаев пролегала мимо нашего дома, и я видел толпы народа, крестьян и крестьянок, в лаптях и босых, сопровождающую икону на всем пути ее следования с молитвами и песнопениями в честь святой девы Марии.
И еще я видел в местечке и в селе, к которому оно прилегало, «мужичков», тоже нищих, неграмотных, темных, как ночь, в оборванных домотканых одеждах, в лаптях, всех этих рабов божьих, тоже слезно молившихся своему христианскому, православному богу. Они не просили для себя ни богатства, ни особых милостей. Они на молебнах, на крестных ходах с иконами и хоругвями, в церквях и дома клали земные поклоны и скромно просили бога своего: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Увы, их православный бог, по примеру своего коллеги, еврейского бога, оставался глухим к мольбе почитавшей его паствы. Молитвы их не доходили до его ушей, и благодать его не сходила на верующих в него. Я мало что понимал тогда, но горе людское, со всех сторон окружавшее меня, я прочувствовал всей своей по-детски чистой душой.
Мне было восемь лет, когда семья наша переехала из местечка в небольшой в то время городишко Ровно по месту службы отца моего в обувном магазине. Об этом городе, о его жизни, о людях, населявших его, можно многое прочитать у В.Г. Короленко в таких его произведениях, как «Дети подземелья», «История моего современника», «В дурном обществе». Этот прекрасный писатель и гуманный человек, проживший все свое детство в Ровно, яркими сочными красками описал трагическую жизнь бедных нищенствующих людей, занимавших самые низкие, самые мрачные этажи человеческого общества.
Семья наша не была, конечно, погружена волей злой судьбы на самое дно житейского моря. Мы жили бедновато, но никогда не были нищими. Мы просто, как говорится, еле сводили концы с концами. Мы не могли жить в самом городе, где квартиры были дороги, и селились поэтому на окраине его. Последние годы мы, как вы помните, жили на Бармацкой улице, непосредственно примыкавшей к грабовому лесу и гористому селению под громким названием «Кавказ». На этой Бармацкой улице проживали крестьяне-«мужики», занимавшиеся хлебопашеством и огородничеством. Уклад жизни, материальная обеспеченность, культурный уровень – все это почти не отличалось от деревенской мужицкой жизни. Та же сплошная почти неграмотность, та же беднота и нищета, то же дикое суеверие и поповское мракобесие, та же помещичья и кулацкая кабала, в которой находились безземельные, безлошадные крестьяне-бедняки.
А на «Кавказе» ютилась вся городская беднота, люмпен-пролетариат: водоносы, биндюжники, носильщики, незадачливые ремесленники, все эти портные, холодные сапожники, бондари, плотники, столяры, наконец, просто профессиональные нищие, одним словом, голь перекатная. Повторяю, по сравнению с этими людьми наша семья жила хорошо, грех было жаловаться.
Я часто бывал в этом убогом поселении, в этой печальной юдоли, и достаточно насмотрелся на жизнь его обитателей. Я и сейчас содрогаюсь от того, что видел там. Не дома, а норы какие-то, избушки на курьих ножках. Не окна, а прорехи, дыры какие-то, часто заткнутые тряпьем там, где стекла выбиты, земляные полы, никакой мебели,-табуретки, лавки, голые столы; не кровати, а топчаны или нары; не постели, а наваленное тряпье, кое-где подушка. И здесь жили люди! И здесь росли дети! Голые и босые, голодные и холодные, без элементарной медицинской помощи, в вопиюще антисанитарных условиях. В такой «благодатный» уголок уж коли, бывало, заберется скарлатина или дифтерит, начнет косить направо и налево, поспевай только могилки рыть! Господи, было ли это? Даже не верится. А было ведь! Вспомните водоноса Лейзера (именно водоноса, а не водовоза – не было у него ни лошади, ни бочки), его жену Песю, которая приходила к нам за старыми ботинками, галошами, поношенной одеждой, за несколькими ложками пасхального гусиного жира, несколькими опресноками мацы и парой десятков яиц на праздник. Вспомните портного Хацкеля, его жену и двух девочек, Рейзеле и Хайкеле, которые жили у «дида». Вы же, как и я, бывали в его «квартире»: одна полутемная комнатка, она же кухня, на земляном полу. Вы помните его «обстановку», его «мебель»? Вспомните Прыську, ее мужа Митьку, ее девочек, Саньку и Маньку, и мальчика Мишку. Вы бывали в их «доме»? Вы помните, как муж Прыськи, вечно пьяный алкоголик, нещадно бил ее смертным боем? Вы помните Шлойме-Ице, старика-бедняка, который в лютые зимние морозы привозил нам с базара несколько мешков половы[1] для коровы? Как он в изодранном пальтишке вваливался в кухню весь замерзший и долго грел у плиты в кухне озябшие старческие руки свои, а мама давала ему стакан чая, чтобы он согрелся, и двадцать копеек за услугу. Вы помните столяра Ицю, грузчика Иделя и много других тружеников, обитавших в жалких лачугах благословенного «Кавказа». Было же это!
Так я в Ровно вновь очутился среди бедных людей, живших в нужде и лишениях. И опять я видел вокруг себя одних только мужиков, ремесленников, грузчиков, чернорабочих, одним словом, голь перекатную. Горе мыкали эти люди в Вербе, горе мыкали и в Ровно. Хочу еще раз подчеркнуть, что по сравнению с этими людьми семья наша жила хорошо, в приличной квартире, в тепле, не голодала. Но я видел, как владелец магазина, родной брат моего отца, богач дядя Нохим, нещадно эксплуатировал отца нашего, которого я очень любил и жалел, как он в семь часов утра уходил на работу и возвращался в десять часов вечера. Он уходил, а я еще спал, он возвращался, а я уже спал. И только когда он прибегал на обед, я имел возможность переброситься с ним несколькими словами. Я видел, как моя мать с утра до позднего вечера трудилась: ей надо было обслуживать восемь человек семьи да еще большое домашнее хозяйство. Прислугу мы держали редко, временами только. У нас была корова, чтобы обеспечить детей молоком, были куры, утки. Зимой откармливали гусей, чтобы приготовить гусиный жир, который нам давали на завтраки и ужины почти всю зиму. Все это было дополнительным подспорьем к скудному заработку отца. Все это хозяйство требовало ухода, приносило много хлопот, много забот. Мы знали, что иначе не проживешь, что нужно трудиться, и мы, дети, тоже трудились в поте лица, каждый по возрасту, по силам своим. Даже старушка бабушка наша – и та трудилась. И в результате такого упорного труда всех членов нашей семьи нам удавалось кое-как сводить концы с концами. Нарядов родители наши не в состоянии были шить себе. Отец носил шубу с барского плеча своего брата-богача, мама, я помню, за всю жизнь пошила себе одно шелковое платье, а мы, дети, тем более не щеголяли в нарядах, все перелицовывалось, перекраивалось, подгонялось в большинстве случаев из «подарков» с того же барского плеча.
Так жили люди, жил народ под стягом «желтого дьявола», под гнетом капиталистов и помещиков, богачей и мироедов. Помните куплеты Мефистофеля: «Люди гибнут за металл, сатана там правит бал». А во главе этого ада, уготовленного здесь на земле великим богом для верующих в него, стоял самодержавец всея Руси, царь Польский, царь Финляндский, Курляндский, Лифляндский, царь Белой и Малой Руси и прочая, и прочая, помазанник самого господа бога, государь император Николай Второй.
Я проникся тогда чувством глубокой неприязни к богачам, к толстосумам и мироедам, которые нещадно эксплуатировали бедный народ и за его счет наживались и жирели. Это чувство я впитал в себя, как говорится, с молоком матери и сохранил на всю жизнь. Я многого не понимал тогда, не изучал политэкономию, но чувствовал, что жизнь полна вопиющих несправедливостей, что не в силе правда, а наоборот, в правде сила, что чем ближе к церкви, к синагоге, тем дальше от бога.
* * *
В Ровно родители определили меня в двухклассное городское училище с пятилетнем сроком обучения: три группы и два класса. Я хорошо учился и закончил его. Стал вопрос о дальнейшей моей учебе в среднем учебном заведении. В те времена правительство мало заботилось о народном образовании. В Ровно было одно только казенное реальное училище. Туда ежегодно принимали сорок учеников, в том числе только двух еврейских мальчиков, для которых установлена была так называемая пятипроцентная норма. Чтобы попасть туда, надо было «подмазать», и довольно солидно. Это было доступно только богачам, и уж совсем не по карману моему отцу, скромному служащему с таким же, больше чем скромным, заработком. И вот родители узнали, что в городе Кременце имеется Коммерческое училище, где нет процентной нормы, и туда принимают евреев, лишь бы платили правоучение – семьдесят пять рублей в год. Для отца это было огромная сумма, в городском училище за меня платили шесть рублей в год. Но желание родителей дать мне образование было настолько велико, что отец повез меня к началу учебного года в Кременец, где я хорошо сдал экзамены и был принят в четвертый класс. Этим своим поступком родители наши одели на себя тяжелое ярмо. Непонятно даже, как они решились на такое. Отец мой обращался было к хозяину магазина, к родному своему брату богачу, за помощью, но тот сказал ему, что незачем давать мне среднее образование, что вполне хватит с меня городского училища. «Пусть, сказал он, устраивается служащим в какую-нибудь контору или дело и начнет зарабатывать себе на жизнь. Тебе тогда тоже легче будет жить, у тебя ведь большая семья». Так ответил родной брат! Это, как видите, тоже кусочек политэкономии: нет братьев, нет сестер, а есть богачи и бедняки, есть эксплуататоры и эксплуатируемые. Есть, Рая, две сестры, ты помнишь, богачка Рахиль и беднячка Йохка. Богачка утопает в роскоши и купается в деньгах, беднячка утопает в нужде и купается в долгах. Ты, Рая, это видела в городе Дубно. Умная это наука, политэкономия!
Отец определил меня на квартиру к весьма бедным дальним родственникам своим, проживающим в Кременце. Семья их состояла из семи человек: отец, мать и пятеро детей. Они занимали две комнаты. Когда вы входили в квартиру, то кажется будто все вокруг вас предупреждает: здесь нужда свила себе надежное гнездо. Когда смотрите на лица обитателей этого дома, то кажется будто на каждом из них начертаны роковые слова: я безнадежно беден. За квартиру и питание отец договорился платить по десять рублей в месяц, так сказать, «на всем готовом». Собственно говоря, и это было ему не под силу. Прощаясь со мной, он сказал мне: «Сынок дорогой, я понимаю, что это нищенски мало, но видит бог, я и этого не могу». Да, бог, конечно, видел это и понимал, что отцу и мне будет очень тяжело. Для этого вовсе не нужно было быть богом, это мог понять и простой смертный. Но бог видел, видел и молчал. И вот началась для меня новая жизнь, тяжелая для меня пора – конец отрочества, порог юности.
* * *
Кременец — это совсем маленький городишко в Юго-Западном крае, приютившийся у крайних отрогов Карпатских гор. Незавидные одноэтажные домики, крытые черепицей или тесом. Только несколько двухэтажных домов, где помещались присутственные места, да двухэтажные здания коммерческого училища, женской гимназии и женского епархиального училища. Никаких театров, клубов. Один кинематограф, иллюзион, как его тогда называли, «живые картины», с участием кинозвезды, нашумевшей в то время, Веры Холодной. Не понимаю даже, как его в этом захолустье открыли. Коммерческое училище содержалось на средства окружных помещиков и богатых купцов, дети которых там обучались. Поэтому и обучение там стало так дорого. В городе ни одного завода, ни одной фабрики. Население, в большинстве своем мелкие торговцы, лавочники и ремесленники, живет небогато, чтобы не сказать большего. Десяток другой более-менее зажиточных семей, несколько богачей-лесопромышленников, остальное население перебивается кое-как, живет по изречению: дает бог день, дает и пищу. Скудный, очень скудный маленький городишко. Единственно, чего там хватает, это бедняков. Юго-Западный край был особенно бедным, Полесье. Земля не больно родит, да и вся она принадлежала князьям и помещикам,- Радзивилловым, Любомирским, Потоцким, Сангушко, Крафтам и иже с ними. Та же картина, что и по всей матушке Руси. Плохо мне жилось там. Кременецкий период был в незавидной юности моей самым тяжелым, самым мрачным отрезком моей жизни. Хуже никого не было.
Начнем с того, что впервые в жизни очутился вдали от родительского дома, без родительской ласки, без общения с братьями и сестрами. Я очень болезненно переживал разлуку с родным домом, долго не мог привыкнуть к ней. Лютая, мутная тоска схватывала ночами за горло, втискивая лицо в подушку. Беспросветно было на душе, слезы лились ручьем. Да, тяжело было, особенно в первое время. Но это была только одна сторона дела, так сказать, душевная, эмоциональная. Была еще и другая, не менее важная сторона, которая определялась бытом моим, материальной безысходной нуждой. Напоминаю, отец платил за меня десять рублей в месяц, тридцать три копейки в день (! ). За эту плату меня кормили, поили, отапливали, предоставили топчан для спанья в проходном коридоре, освещали маленькой восьмилинейной керосиновой лампочкой, меняли иногда (именно иногда) постельное белье и «обеспечивали» всякими другими «удобствами». А ведь надо было купить еще и тетради, и чернила, и карандаши, и хотя бы пару книжек, и ручку и альбом для рисования, и в училище хоть бублик скушать. Господи, как было жить мне, четырнадцатилетнему мальчику? Но я, представьте себе, жил – мучился, но жил. Хотите знать, как? Вот послушайте, опишу один год жизни моей, один только год – он типичен для всех прожитых мною в Кременце трех печальных лет. Опишу коротко, в скупых чертах, подробности мне просто стыдно рассказывать, да и не хочется вспоминать это мрачное в моей жизни время. Оно было настолько безысходным, что мне и теперь, спустя шестьдесят пять лет, когда вспоминаю этот период жизни моей, кажется, что я заглянул в темный, сырой угол, и я стараюсь не думать об этом, забыть навеки.
Жил я тот год у Лейзера Бергера и жены его Ити. Дом их стол на «главной» улице, кое-как вымощенной булыжниками и изрядно испещренной выбоинами и колдобинами. Прямо против дома стояла синагога, выстроенная в непонятно каком стиле. К синагоге примыкал небольшой лесной склад, принадлежавший Лейзеру и родному его брату на равных правах. Этот склад должен был кормить две семьи обоих братьев, всего двенадцать человек. Должен был, но делал это в весьма скудных размерах: в те года, в канун первой мировой войны 1914 года, свирепствовал экономический кризис, и торговля пережила сильный застой. Я редко видел на складе покупателей. Постоянным посетителем его был только староста погребального братства, регулярно приобретавший на складе по несколько досок для похорон. Этого покупателя я хорошо помню. Помню и табуны коз, белых, серых, пятнистых, от которых на складе отбоя не было: они приходили лакомиться корой, которую они усердно обгладывали с соснового кругляка. Дом, в котором мы жили, был уже довольно ветхим, кое-где прогнившим. Как-то по-дикому воздвигались в те времена дома. Казалось, строители задавались одной только целью: сделать их как можно менее удобными для проживания. Вход в дом открывался прямо с улицы – с тротуара прямо в комнату. Никакого крыльца, никакого тамбура. Одностворчатая одинарная дверь, наполовину застекленная, отделяла комнату от улицы. Осенью от сырости дверь эта набухала и плохо закрывалась. Зимой она от разности температур снаружи и внутри намерзала, и стороны, обращенная в комнату, постоянно отпотевала и покрыта была слоем снега и льда. Окна небольшие, потолки низкие, света даже и днем маловато. За первой комнатой шел почему-то коридор, который вел в другую комнату еще более плохо освещенную, почти полутемную. В первой комнате была столовая, стоял большой стол, несколько стульев и шкафчик, где хранилась посуда. Во второй – две большие деревянные кровати, где спали хозяева, и большой сундук. Там же, на «складушках», спали две дочки. Две другие — спали в столовой. Сын хозяина и я – в проходном коридоре на деревянных топчанах. Между этими топчанами стоял небольшой столик с маленькой на нем керосиновой лампочкой. За этим столиком я готовил уроки, читал и писал. Сын хозяина, которому было четырнадцать лет, не учился: за неимением средств он закончил только два класса городского училища и определился в типографию учеником наборщика с оплатой в три рубля в месяц. В квартире были деревянные полы, но почему-то неокрашенные. Каждую неделю полы мылись и натирались красным песком. Эта операция производилась в пятницу, когда квартира убиралась на установленный еврейским законом день отдыха – святую субботу. Так жили мы в этом доме — восемь человек: хозяин с хозяйкой, пять человек детей и я, квартирант, на всем готовом, на тридцать три копейки в день.
К сожалению, не мы одни вправе были считать себя обитателями этой квартиры. Вместе с нами в ней проживала и еще живность, которая чувствовала себя весьма уютно в этом доме. Кишмя кишели здесь мухи, спешили куда-то прусаки, сновали во все концы черные тараканы, по углам ютились мокрецы. Под полом жили и попискивали мыши, а ночью выходили на промысел огромные, серые крысы, усатые, длиннохвостые, некоторые величиной с котенка. Дом был старый, ветхий и все это «общество» живых существ годами населяло его, плодилось и размножалось и с полным основанием считало себя аборигенами этого незадачливого помещения. Они здесь были старожилами и обладали неотъемлемыми привилегиями на право жительства в этом благодатном для них, райском уголке.
Жена реб Лейзера Итя помогала своему мужу содержать семью, поскольку его заработков явно не хватало. У них была сестра, богачка, которая проживала в городе Дубно, в сорока километрах от Кременца. Муж этой сестры имел собственную паровую мельницу, вел другие коммерческие дела, дававшие солидные доходы, и не без основания считался богачом. Каждую неделю, в четверг, он по протекции, очевидно, своей жены посылал Ите подводу с мукой, а она развозила ее в Кременце мелким лавочникам, которые продавали ее населению и оплачивали стоимость ее Ите. Она, Итя, в свою очередь пересылала эти деньги дубенскому богачу. За эти услуги богач-благодетель выплачивал Ите комиссионное вознаграждение.
Работа эта была весьма хлопотливая. Надо было в четверг развезти муку по городу владельцами лавчонок, а потом в остальные дни недели бегать к ним собирать стоимость муки, которая оплачивалась лавочниками частями по мере продажи товара. Когда я вспоминаю эту суетливую женщину, то всегда вижу ее в бегах, мечущуюся по городу от одного лавочника к другому за деньгами. Вечно занятая, вечно в бегах, что-то считающая, что-то записывающая, что-то вычеркивающая, она вечером вваливалась в дом совершенно обессиленная, уставшая, замороченная, проклинающая своего богача, лавочников, мужа, детей и все, и всех на белом свете. Ей было уже не до ведения хозяйства в доме, не до чистоты в квартире, не до приготовления пищи. Бывало, когда она появлялась в доме и дети, мал-мала меньше, обступали ее и требовали: мама, кушать, – она в сердцах ругала детей, проклиная: «Пусть вас черви едят», или «Господи, отец небесный, похоронить бы мне вас, всех в один день». О, она умела ругаться и проклинать, это часто выходило у нее даже под рифму, в стихотворной форме, как у Пушкина. Не буду здесь приводить все эти ее двустишия, не имеет смысла: почитайте Шолом-Алейхема, он свое время в одном из своих рассказов специально перечислил все проклятия, которые отпускала его мачеха. Нет, не подумайте плохо, хозяйка моя, Итя любила своих детей, была им предана, давала все, что могла, чтобы накормить их, одеть, обуть, но вечная нужда, которая безраздельно царила в этом доме, не покидая его, доводила порою этих людей до отчаяния, до исступления, и они теряли власть над собой, теряли контроль за своими поступками, за словами, которые временами срывались с их уст. А люди они были хорошие, душевные. Они ко мне относились душевно, помогали, чем могли, и я до сих пор вспоминаю их добрым словом.
Меня, конечно, в этом доме никогда не ругали – я ведь был постояльцем, которому ничего не скажешь плохого и за содержанием которого платили. Помню, когда выпадал день, в который не было приготовлено ужина, хозяйка давала мне пять копеек, чтобы я купил себе что-нибудь покушать. Я немедленно отправлялся к лавочнице Ривке и там покупал себе за одну копейку ломтик селедки с добавкой к нему в качестве довеска-премии кусочка селедочной икры или молока, на две копейки фунт хлеба и на две копейки халвы. Это был роскошный ужин: сначала чудесную толстоспинную селедку с хлебом, потом халву с хлебом и стаканом чая, который кипятили для меня девочки. Не ужин, а пир. { еда } Не так уж часто это бывало, но бывало все же.
Хорошо было в пятницу вечером и в субботу, которую все евреи бедняки очень любили и ждали всю неделю. В этот вечер, в пятницу, в квартире было сравнительно чисто, полы вымыты, дети умыты, девочки с блестящими, смазанными подсолнечным маслом, волосами, заплетенными косичками. Вся семья, включая и меня, садилась за стол, за ужин. На столе, помимо обычной лампы, стояли две свечи в медных, начищенных до блеска, подсвечниках, над которыми хозяйка, когда она их зажигала, тихо про себя произносила краткую молитву, закрыв лицо ладонями обеих рук. Во время молитвы она часто плакала, и слезы ее проступали сквозь пальцы и падали на стол: кап, кап... Я тогда не понимал, почему она плачет. Теперь, я, конечно, понимаю. Велик бог наш, но больно уж любит слезы людские. Этими слезами, лившимися из глаз бедняков, обездоленных судьбой, униженных и оскорбленных, можно было море заполнить. Но ему господу нашему, мало было их, и они продолжали изливаться... Потом мы все садились за стол и начиналась долгожданная трапеза. Это был царский ужин, пища богов, из трех блюд, настоящий пир. Вот послушайте. Начну с того, что на столе лежал белый свежий хлеб, который хозяйка пекла из той же муки ее сестры богачки. Уж одно это чего-то стоило,-пусть раз в неделю, но ведь все-таки белый хлеб. На первое подавалась рыба. Надо правду сказать, рыба была не ахти какая, костистая плотвичка из тех, что именуются в народе «кошачья радость», жуй-плюй. Но все же рыба! И главное, подливы много, полная глубокая тарелка, за подливой и рыбы не видно. А на столе белый хлеб, макай и кушай. После рыбы — бульон, куриный бульон, засыпанный фабричной вермишелью: хозяйке некогда было готовить, как тогда было принято, домашнюю лапшу, или «фарфел». Всегда на субботу покупалось полкурицы (! ) В те времена на базаре продавалась и половина курицы, и даже четверть. Варилась большая кастрюля бульона, и в пятницу вечером съедалась только половина его, а на субботу оставалась вторая половина и курица. И, еще раз напоминаю: все это с белым хлебом! Наконец, на третье мы получили сладкий морковный «цимес», или по стакану компота из сухофруктов. Ну что, кроме хорошего, можно сказать о таком великолепном ужине? Лучше быть не может! Вот мы и радовались все за столом, были в приподнятом прекрасном настроении. Хозяин даже шутил за столом, подтрунивая над Итей, что случалось крайне редко. Помню, как-то раз он сказал: «Моя Итя, когда она варит рыбу, то ее, рыбу эту, надо дочищать от лузги в тарелке за столом. Когда она готовит бульон с фабричной вермишелью, из тарелок приходится выуживать попавшие туда гвоздики от ящика, в котором была упакована вермишель». Вообще-то он был прав: оно частенько так и получалось. Но я, видевший, как постоянно трудилась, крутилась и моталась, как белка в колесе, Итя, считал своим долгом заступиться за нее и говорил ему: «Реб Лейзер, ведь тетя Итя всегда занята, всегда спешит, а на субботу она готовит в четверг, то есть как раз в тот особо тяжелый для нее день, когда привозят муку. Кроме того, она еще и очень близорука, плохо видит, а в кухоньке всегда стоят сумерки. Вот у нее иногда случается то, о чем вы говорите». Он смеялся и по-дружески похлопывал ее по плечу, а она в ответ улыбалась и говорила: «Спасибо, Ицык, хоть ты меня защищаешь, хоть ты видишь мою жизнь». Да, хорошо было в этот вечер. Все были сыты, никто не просил кушать, никто не ругался и не предъявлял претензии. Было тихо и мирно.
Как видите, тяжело жили хозяева мои, очень тяжело. Не легко жилось и мне рядом с ними. Помню, когда я приезжал домой из Кременца на рождественские, пасхальные и летние каникулы, я всегда поражался, как хорошо, сравнительно, обеспечена наша семья и, каюсь, завидовал братьям и сестрам на их жизнь. Повторю, они жили скромно, питались скромно, ничего такого себе не позволяли, но нужды, тем более голода, не испытывали.
* * *
Единственным для меня выходом из тяжелого моего материального положения, из постоянной нужды в копейке, были, конечно, уроки. Но где было их взять, уроки эти, в чужом городе мне, четырнадцатилетнему мальчику? Судьба моя все же временами была милостива ко мне, порой улыбалась мне, и на сером небе моей жизни нет-нет да появлялся луч света. Прошло несколько месяцев моего пребывания в Кременце, и мне удалось найти урок. Рядом с нами жила бедная семья, обремененная детьми, среди которых был один мальчик-калека: горбун. Я и сейчас вижу его перед собой. Маленький, горбатенький, какой-то весь ссохшийся, худенький десятилетний мальчик с лицом старичка: желтым, будто покрытым не человеческой кожей, а пергаментом. Уши большие, несколько оттопыренные, прозрачные. Худые руки, длинные тонкие пальцы, голубые, глубоко сидящие глаза, сквозь которые просвечивает скорбь по навеки утерянной детской радости. Мне до сих пор жалко этого мальчика-старичка, так безжалостно обиженного судьбой. Этому мальчику, неспособному к физическому труду, его родители решили дать элементарное образование: научить писать, читать и считать. И вот мать этого мальчика, встретив меня, предложила взяться за его обучение. Она сказала мне: «Ицык, много я не могу, ты наш сосед и видишь, как мы живем, но я буду платить тебе три рубля в месяц. Поверь мне, больше я не в состоянии. Не отказывайся, прошу тебя». Я, конечно, не отказался: для меня это было той соломинкой, за которую хватается утопающий. Больше того, я был рад и счастлив: шутка ли, три рубля! Это же триста бубликов, десять бубликов в день. Это тетради, альбом для рисования, учебник, карандаш – все, без чего учение немыслимо.
Спустя некоторое время, по мере того как я осваивался в новой обстановке и присматривался к окружающей меня среде, появлялись и некоторые другие возможности время от времени пополнять свой скудный бюджет. Особо богатых учеников в нашем училище не было, но дети более-менее состоятельных родителей все же были. Нам, ученикам, задавались два-три раза в год домашние сочинения по русскому языку. Помню, когда мы изучали древний памятник русской литературы «Слово о полку Игореве», нам задали написать домашнее сочинение на 10-15 страниц и охарактеризовать события и героев того далекого исторического периода, о котором шла речь в «Слове». Произведение это написано было на древнеславянском языке, тяжелым стилем и содержало много непонятных слов, выражений и даже целых фраз. Писать было довольно трудно. Я хорошо учился, и некоторые мои соученики по классу попросили меня написать и им это сочинение. Я согласился это сделать по три рубля за каждое. Для меня это был изрядный труд, и, помню, я несколько ночей почти не спал: одно сочинение написал для себя и три для моих товарищей. Главная трудность заключалась в том, что сочинения эти не должны были походить друг на друга, в противном случае преподаватель мог легко обнаружить обман. Все прошло благополучно, и я заработал девять рублей – это были деньги!
Таким же путем я в другой раз написал сочинения по произведениям «Недоросль» и «Горе от ума». Было, конечно, трудно, но зато был же и заработок. Для меня все это было существенной материальной поддержкой.
Вспоминаю и такой случайный заработок. К нам в Кременец переехал на жительство профессор-историк, седой невысокий старичок. Он был приглашен к нам в училище и преподавал нам историю средних веков. Говорили, что он за свободомыслие был изгнан из столичного университета и переехал в наш город к своей сестре. Он в преподавании применял методы, существовавшие в высших учебных заведениях: всю четверть только читал лекции, никогда не вызывал нас, не спрашивал и не проверял наши знания, как это практиковалось в средних учебных заведениях. В конце четверти, когда надо было выставить оценки, он вызвал учеников и оценивал их знания. Такая методика преподавания для нас, учеников, конечно, не годилась. Многие немедленно воспользовались этим, перестали учить историю и не знали ее. Ясно, что профессор этот, в свою очередь, не знал своих учеников не только по фамилиям, но даже и в лицо,-для него мы были все одинаковыми. И вот, когда заканчивалась четверть и начался опрос, один из учеников попросил меня пойти сдать за него историю. За это он должен был заплатить мне пять рублей. Я это сделал, и получил для этого ученика оценку «пять». Деньги-то я получил, но был за это наказан. Когда я через несколько дней пошел сдавать историю за себя, профессор оценил мои знания только на «четыре».
Бывало порой, что в конце четверти перед контрольной классной работой по алгебре или геометрии некоторые состоятельные ученики обращались ко мне с просьбой помочь им усвоить тот или иной раздел курса, и это тоже приносило мне определенный доход. Вот так я перебивался, подкреплял немного свой бюджет, жил и учился. И только через год-полтора, когда я уже перестал быть мальчиком, когда меня можно было назвать уже юношей, мне удалось получить два урока: один за семь рублей пятьдесят копеек (была такая золотая монета – полуимпериал) и один за пять рублей в месяц с мальчиком третьего класса. Я даже умудрился в тот год накопить немного денег, и помню, как приехав на рождественские каникулы домой, я привез и отдал маме двадцать серебряных рублей, предварительно специально наменянных мною для торжественности» акта их вручения. Я особым, ранее прорепетированным мною приемом кидал рубли один за другим на стол и наслаждался певучим, ласкающим ухо, звоном, который они издавали. Мама на другой же день побежала в мануфактурный магазин, набрала черное сукно и отдала мне шить форменную шинель в зеленой окантовке на воротнике и рукавах. Помню, когда я одел эту шинель, а она пошита была «на вырост», чересчур длинной, широкой, одним словом «с запасом», брат мой, Митя, большой шутник и острослов, говорил мне: «Тебя будут все домовладельцы по нашей улице благодарить. Ты, когда будешь проходить мимо них, довольно основательно будешь подметать им своей шинелью тротуары». Это была, конечно, шутка, а вообще мне стало материально несколько легче, и я не так, как вначале, бедствовал, не так остро нуждался. Увы, это, к сожалению, длилось недолго. В 1914 году грянула первая мировая война, наши войска терпели поражение за поражением, отступали, и училище наше эвакуировалось в город Александровск (ныне Запорожье), где слилось с Александровским коммерческим училищем. Вслед за ним уехал туда и я. Все рухнуло, все надо было начинать сначала.
И опять на мою долю пали тяжелые испытания. Опять я очутился в совершенно чужом городе, один, как палец, – ни единого знакомого человека, без угла, без крыши над головой, без денег, с тридцатью рублями в кармане, живи, как хочешь. Хочешь живи, хочешь – ложись да помирай. Кто тебя знает, кому ты нужен!..
Так начался второй период моей юности. Оглядываясь теперь назад на те годы, осмысливая все, что было, хочется сказать: эх ты, юность моя безрадостная! Эх, жизнь моя, «жестяночка». Тяжело ты далась мне, в муки рожденная! Много труда положил я, пока удалось мне выбиться в люди и стать человеком. Ой, как много! Где только силушки брались?!
Дорогая моя Раечка!
Я получил твое письмо. Если бы ты только знала, какая это для меня радость читать их. Это для меня, как праздник. Ведь письмо тоже может служить прекрасным средством общения с дорогими тебе людьми. Они как мост, переброшенный от сердца к сердцу. Ты пишешь: «Не иначе как ты считаешь, что я не сумею по достоинству оценить твое литературное произведение». О нет, ты, Раечка, глубоко ошибаешься. Я, наоборот, всегда считал и считаю, что ты, как никто другой, знаешь цену словам, положенным на бумагу, и умеешь читать как сами строки, так и между строк. И если я не посылаю тебе того, что написал, то только по той единственной причине, что не хочу тебе надоедать своими «литературными», как ты их называешь, опусами, отбирать у тебя время на чтение их, утруждать твои слабые глаза. И потом я далеко не уверен в том, что мои воспоминания могут представлять интерес для других. Для меня же эти эпизоды из далекой юности моей являются отдушинами в те часы, когда никогда не покидающая меня тоска особо остро дает себя чувствовать, требует выхода и ищет хоть какую-нибудь развязку. Меня в такие минуты, как магнитом, тянет к перу и бумаге, и я пишу. Пишу для себя, ни для кого больше. И тогда на душе делается несколько легче, и скорбь,-матерь всякой сердечной боли, не так теснит грудь. Временами я вновь и вновь возвращаюсь к написанному, перечитываю и тогда «на старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною». И тогда, как я уже, кажется, писал тебе, я испытываю хотя и томящее, но вместе с тем счастливое чувство прикосновения к нам вплотную. Иначе, Раечка моя, как жить, если душа не на месте, если все вокруг напоминает о ней, у тебя – о нем. Ведь нам с ними было так хорошо, как птице в теплом гнезде. Господи, какое это было счастье жить с людьми, у которых сердца полны были света!
Где оно, время это? Где они, дорогие люди эти?
Посылаю тебе рассказ, который ты просишь у меня, и крепко-крепко обнимаю и целую тебя.
Паныч
Существовали в давние времена, почти шестьдесят лет тому назад, когда у власти стояли помещики и капиталисты, такие слова, которые в наши дни вышли из употребления. Дети наши, внуки наши их не слышат и не понимают ни их содержания, ни смысла. Вот некоторые из этих слов: Ваше величество, Ваше высочество, Ваше сиятельство, Ваше превосходительство, Ваше благородие, барин, барчук, пан, паныч. Слова эти после Октябрьской революции вышли из оборота, и нигде не услышишь. Разве только в старой литературе их можно встретить. Нет нужды объяснять здесь смысл всех этих слов, для кого они предназначались и кому адресовались. Скажу только коротко: для царей и особ царствующего дома, для князей, графов, баронов, генералов, для помещиков и капиталистов, одним словом, для власть имущих, для богатых господ и панов. И уж во всяком случае не для таких, как я, бедняков, у которых не было ни кола, ни двора, за душой ни гроша, один форменный, изрядно тронутый временем, ученический костюм, такая же шинель, одна пара довольно поношенных ботинок, пара галош и кой-какое бельишко. Все мое имущество помещалось в одном небольшом чемодане, занимая половину его. Вторая половина предназначалась для тетрадей и учебников, которых у меня было очень мало по той простой причине, что не на что было мне их покупать, и я пользовался учебниками состоятельных моих одноклассников. Так мы, бедняки, кухаркины дети, тогда жили, так учились. Справедливости ради отмечу, что учились мы, бедняки, не плохо и по успеваемости, как правило, всегда были впереди класса. Преподаватели наши выделяли нас, относились к нам с уважением, часто даже с любовью, и ставили в пример сынкам и дочкам богатых родителей, которые смотрели на нас с некоторым пренебрежением: что, мол, с них взять – с голодранцев. Чтобы лучше понять то, о чем будет рассказано ниже, необходимо отметить, что слово «пан» польского происхождения и означает то же, что русское слово «господин». Прислуга (было когда-то и такое слово) – дворники, кучера, конюхи, садовники, горничные, кухарки, няни и другая челядь, обслуживающая господ и панов и полностью от них зависящая, называла панских детей, мальчиков и юношей, панычами. Само собой разумеется, что меня, яркого представителя династии бедняков-голодранцев, никто никогда панычем не называл. Это милое слово, будь оно адресовано ко мне грешному, звучало бы обидно, как злая ирония, как издевка, как оскорбление. И все же, когда мне шел восемнадцатый год, я удостоился услышать в мой адрес это заветное слово «паныч». Услышать из уст прекрасной девушки, красивой и молодой, девушки с голубыми, почти васильковыми, глазами, очаровательными ямочками на щечках, с обворожительной улыбкой и белыми, как снег, зубками, то выглядывавшими, то прятавшимися за алыми сочными губками. Губки эти, казалось, просили: ну поцелуй же нас. Чтобы никого не искушать, скажу сразу: нет, я никогда эту милую девушку не целовал, хотя честно признаюсь, мне очень хотелось это сделать, уж больно хороша она была. Каюсь, велик был соблазн, да и было мне тогда восемнадцать лет, возраст для таких дел самый подходящий. По той только причине не поцеловал, что меня вместе с этой милой девушкой могли бы вышвырнуть из дому, и в моем бюджете немедленно образовался бы дефицит в двадцать пять рублей – деньги для такого паныча-бедняка по тем временам немалые. Но, повторю, панычем меня все-таки называли, и я имел возможность испытать прелесть этого слова, произнесенного в мой адрес устами такой очаровательной девушки.
Это было в 1916 году, осенью, в октябре месяце в городе Александровске, ныне Запорожье. Я был тогда учеником седьмого класса Александровского коммерческого училища имени графа С.Ю. Витте { образование }, занимался репетиторством, бегал с урока на урок и на заработанные деньги жил, да еще помогал своим родителям. Был у меня урок у одного генерала. Жил он в полосе отчуждения железной дороги в довольно большом парке. Далеко в глубине этого парка стоял приветливый особняк, вероятно, комнат на десять. К парадному подъезду его вела узкая, выложенная плитами, дорожка шириной не больше метра, по обеим сторонам которой тянулись цветники, клумбы, декоративные насаждения. Несколько дальше, в глубине парка, просматривались статуи красавиц, гладиаторов, беседки. Сын генерала, его звали Володей, учился в том же коммерческом училище, что и я. Он и был моим учеником, с которым я готовил уроки, повторяя пройденное, не давая угаснуть еле теплившейся в его слабом мозгу искре знаний. Я с ним в свое время набрался хлопот через край. Мало того, что у него были весьма ограниченные способности, он еще и не хотел заниматься, не любил учиться и делал это из-под палки. Он был, как тюбик: нажмешь – работает, не нажмешь – не работает. Он и теперь, спустя пятьдесят девять лет, как живой, стоит у меня перед глазами. Высокого роста, худой, узкие покатые плечи, длинные, как у шимпанзе, руки, маленькая голова на плечах, узкий малообещающий лобик, острый, как лезвие ножа, нос. На лице его написаны были все добродетели за исключением одной: способности мыслить. Он был неплохим парнем, очень добрым, оказывал мне много знаков внимания, но способностей, увы, никаких. Не знаю, отчего у него это было – то ли от лени, то ли от природы, бог его что ли обидел. На нем можно было проверить всю справедливость народной мудрости, гласящей: лучше умный человек небольшого роста, чем большой и глупый болван. Да простится мне это злословие, повторяю, человек он все-же был неплохой.
Как и полагалось в те времена, у генерала был целый штат обслуживающего персонала. Теперь эта категория трудящихся называется МОП – младший обслуживающий персонал. Всех этих людей я, конечно, не знал, но некоторых из них видел. Видел дворника, садовника, кухарку, горничную. Ее, горничную, видел чаще всех: она всегда открывала мне парадную дверь, провожала у этой двери, когда я после урока уходил, помогая снимать и одевать шинель. На должность горничной в богатых домах, как правило, приглашались молодые красивые девушки, всегда опрятно, даже красиво одетые. Они не выполняли никаких грязных работ и до некоторой степени даже украшали дом. Так было принято, так полагалось. Эту горничную, эту милую девушку я видел каждый день, все дни недели кроме воскресенья, и хорошо ее помню.
Помню первую встречу мою с ней. Я пришел в этот генеральский особняк, поднялся по мраморной лестнице, украшенной с обеих сторон двумя лежащими, положив голову на могучие лапы, львами. Позвонил в массивную парадную дверь. Сознаюсь, позвонил с некоторой опаской, я бы сказал, даже с душевным трепетом: шутка сказать – генерал! По одну сторону дверей – я, бедный еврейский юноша, по другую, я это твердо знал, генерал, с которым я, правда, успел уже познакомиться в кабинете директора училища, рекомендовавшего меня в качестве репетитора для генеральского сына. И вот открывается дверь, и предо мною предстает очаровательная девушка. Это и была горничная. Я просто был поражен красотой ее. Тонкие черты лица ее делали его нежным и очень милым. Пленительную красоту этого лица я описал уже выше. Остается добавить, что в своем белоснежном накрахмаленном переднике, в белой наколке на голове – наколке, сквозь которую пробивались и рвались наружу пышные белокурые волосы ее, она была похожа на гимназистку, выскочившую ко мне на минутку из школьного актового зала, где шел торжественный новогодний бал. Ее, как я потом узнал, звали Машей. Красивая была девушка! Я разделся, снял шинель, снял галоши, и она проводила меня в комнату моего ученика, где мы всегда занимались. Так состоялось первое наше знакомство.
С тех пор я часто видел ее. Каждый вечер она открывала и закрывала за мною дверь. Каждый вечер она заносила мне во время урока стакан чая с печеньем. Один раз в месяц она на подносе заносила на конверте мою «зарплату», двадцать пять рублей. Я, конечно, понимал, что приносила она все это не по своей инициативе. Она просто выполняла указания генерала, который оказался довольно хорошим человеком, часто после урока заходил к нам в комнату, подолгу беседовал, бывало, со мною, интересовался, как живу, кто мой отец, где живет, чем занимается. Как видно, разные все же бывали и генералы.
И вот однажды…
Разгар осени, вторая половина октября. Вспоминается один день, хмурый осенний день. Все кругом серо. Серое небо от края до края сплошь покрыто серыми тучами, гонимыми ветром непонятно откуда, неизвестно куда. С утра до полудня лил дождь, какой-то тоже серый, нудный, ноющий, как зубная боль. Безмолвно и печально стоят деревья – мокрые, серые, они думают печальную думу свою. Ветер безжалостно ободрал с них листья – раздел догола, и они устремляют голые ветви свои ввысь. Кажется, это не ветви, а руки, исхудалые, иссохшие, бессильные руки, простертые к небу в слезной мольбе о помощи. Земля вокруг лежит в трауре, черная, как ночь, мокрая, вязкая, вся в непросыхающих лужах, как в слезах. К вечеру дождь прекратился, и на землю пал густой туман. Он обнимался с тучами и плакал от тоски, источая мелкие, холодные капли.
В этот день, в семь часов вечера я отправился на урок к генеральскому сыну. Было уже темно, и я, страдавший с малых лет острой близорукостью, очень плохо видел и то и дело попадал в грязь и лужи, выскакивал из одной и тут же попадал в другую, обдавая все вокруг себя грязными потоками воды. Расплачивалась за эту слепоту мою в первую очередь нижняя часть моих брюк. От такого «хождения по водам» они, брюки мои, были грязные и мокрые до колен, хоть выжимай. Вдобавок, когда я очутился уже, наконец, в парке и стал двигаться к особняку по узкой вымощенной дорожке, которую тоже не видел в этой непроглядной тьме, меня занесло куда-то в сторону. Я сбился с дорожки и попал в перекопанную по обе ее стороны полосу цветников, на которой пластами лежал жирный, мелкий, как смола, чернозем. Он немедленно обхватил мои галоши, как клещами, намертво пристал к ним и не выпускал из своих железных цепких объятий, все больше и больше налипая. Я с трудом вытаскивал ноги из этого круто замешанного месива, увеличивавшегося в весе. Казалось, на ноги мне повесили пудовые гири. С трудом выбравшись на дорожку, я очутился, наконец, у парадных дверей и позвонил. Девушка «моя», горничная, открыла дверь и с удивлением осмотрела меня с головы до ног: я это или не я. Нет, она ничего не сказала мне, она была достаточно хорошо вымуштрована на своей работе и знала, как надо себя держать. Но одно только восклицание все же сорвалось с ее уст: о, боже! Я осмотрелся, увидел свое отражение в стоявшем в передней большом трюмо, и готов был провалиться сквозь землю. Предстать перед глазами этой милой, всегда идеально опрятной девушки, в таком виде – это, поверьте, тяжелое испытание. Но что поделаешь, я разделся и направился к своему ученику.
Через час я закончил урок и вышел в прихожую, где меня ждала уже горничная. Она сняла с вешалки и подала мне мою шинель, не успевшую еще высохнуть. Я надел ее и нагнулся к галошнице, чтобы взять свои галоши. К моему удивлению обнаружить мне их не удалось. Как я ни искал, как ни старался, галош там не было, они почему-то исчезли. Понимая, что в этом богатом доме мои старые, облепленные грязью, галоши никому не нужны, я усердно продолжал поиски. Увы, безуспешно – галош не было. И вот стою я так на корточках, пригнувшись к галошнице, и слышу тихий милый голос стоявшей сзади меня горничной: «Паныч, что вы там долго ищете?» Я продолжаю копаться в галошнице и смущенно отвечаю ей: «Не могу, Маша, найти свои галоши. Ума не приложу, куда они могли деваться?» Я выпрямляюсь, смотрю на светлое, улыбающееся ее лицо, на лучистые голубые бездонные глаза и слышу в ответ: «Паныч, милый, вот же они стоят. Они были очень грязные, и я их помыла. Я и шинель Вашу хотела почистить, но она еще мокрая». Она отстраняет меня, нагибается и подает мне вместо моих облепленных грязью совершенно чистые, почти до блеска вымытые, неузнаваемые мною поэтому, галоши. Она ставит их перед моими ногами, выпрямляется, и я вижу ее лукавую улыбку на сияющем лице, ее очаровательные ямочки на щечках, ее непослушные белокурые волосы, девичий пушок на чуть-чуть припухших губках. Я стоял перед ней, как завороженный, и любовался ею: она похожа была в тот момент на добрую фею, сошедшую со страниц сказок Андерсена. Господи, как она была хороша, эта милая очаровательная девушка!
Мы были одни в прихожей… Не переживайте, читатели этих строк, не ждите тонких эмоций, объятий, поцелуев… Не надейтесь, ничего этого не было и не могло быть. Я взял ее руку, крепко пожал ее и сказал тихо-тихо, чтобы никто случайно не услышал: «Спасибо, Машенька, большое вам спасибо. Какая вы хорошая. Но у меня будет к вам большая просьба, – пожалуйста, не называйте меня панычем. Я не паныч, я такой же, как и вы, вышел из простого народа, как, вероятно, и вы. Мои родители такие же бедные простые люди, как и ваши. Прошу вас очень, Маша, не называйте меня никогда больше панычем». Она улыбнулась и тоже тихо, почти шепотом, ответила: «Хорошо, не буду больше. Я немножко знаю о вас. Я прислуживала за обедом, подавала и убирала кушанья, и слышала, как генерал рассказывал барыне, какой вы хороший, хотя и бедный, но хороший, как вы хорошо учитесь и как директор училища хвалил вас. Я вам завидую, я тоже хотела учиться, это была моя мечта, но мой отец, бедный почтовый служащий, умер год тому назад от тифа и оставил маму с пятью детьми на руках без всяких средств. Вот и рухнула моя мечта стать телеграфисткой, пришлось, чтобы помочь маме, пойти в услужение горничной. А я так хотела учиться, но прошла только несколько классов и оставила школу».
На этом наш разговор закончился. Я, прощаясь с нею и, тронутый до глубины души краткой, но скорбной повестью, услышанной из уст этой девушки, вышел и поплелся домой. Стояла ненастная погода. Моросил дождь. Все вокруг было мокрым, темным, печальным. Печально и грустно было и у меня на душе от только что выслушанной исповеди, изложенной в нескольких скупых словах…
Вот и все. Вот при каких обстоятельствах я услышал в свой адрес слово «паныч».
* * *
Хотите знать, как реагировала на все это Шура моя. Могу ответить и на этот вопрос.
Шура тогда еще не была тем, чем стала для меня впоследствии. В то время ничего между нами еще не было. Она была просто моей знакомой гимназисткой, сестрой моего товарища Левы, с которым мы дружили, вместе часто готовили уроки, гуляли. Помню, возвращаясь тогда с урока домой, я зашел к Леве, чтобы взять у него учебник Рыбкина по тригонометрии. Я посидел у него немного. Зашла к нам и Шура, и я рассказал им о случае с галошами горничной Машей, под свежим впечатлением которого я тогда находился. Они посмеялись, но смех этот был с довольно горьковатым привкусом. Шура некоторое время в шутку иногда называла меня панычем. Встречая меня, она, бывало, нет-нет да скажет: ну, паныч, как ваши дела? А потом это забылось. Но я не забыл и до сих пор хорошо помню, словно это было вчера. И уже много лет спустя, когда мы были уже пожилыми, Шура, бывало, попросит: Расскажи, как ты стал панычем. Я ей рассказывал, а она внимательно слушала и каждый раз воспринимала по-новому. Хорошим она была человеком, с добрым сердцем и любовью к людям, особенно к людям простым, бедным. Однажды, выслушав в который раз эту печальную повесть о девушке Маше, Шура несколько минут сидела молча, потом тихо с грустью в голосе сказала мне: «Исюнька, напиши об этом. Сами почитаем, дети и внуки наши прочтут и призадумаются над тем, что и как было, поймут, что такое в старое время значило быть генералом и что такое горничная».
Вот я и написал….
Ноябрь 1975 г.
На рысаке
Уж так сложилась юность моя. Вся она прошла в заботах и упорном, каждодневном труде. Зимой — первая половина дня в училище на занятиях, вторая — в беготне по урокам, с девяти часов вечера до поздней ночи за столом над выполнением своих собственных школьных занятий на следующий день. Летом — выезд в деревню на каникулы к какому-либо богачу, где я готовил детей к поступлению в разные учебные заведения, либо занимался с переэкзаменовывавшими, чтобы они могли осенью ликвидировать свои «хвосты» и перейти в следующий класс. Воистину велик Бог наш, велик и милосерден, да святится имя Его: что бы мы, бедняки, делали, если бы дети богачей занимались хорошо и не нуждались в репетиторах?
Тяжело бывало, но другого выхода не было: я был предоставлен самому себе, помощи ждать было неоткуда. Да еще надо было содержать Митю, брата моего, которого я вызвал к себе из Тамбова, и он поступил в Мологанское коммерческое училище. Ему я высылал ежемесячно переводом двадцать пять рублей на жизнь, а в то время это были немалые деньги, особенно для такого «магната», как я.
Я, по возможности, старался не брать таких учеников, которые далеко от нас жили. Времени было в обрез, и тратить его на длительные переходы нежелательно было. Тем более, что тогда сокращалась возможность наших и без того ограниченных встреч с Шурой. Увы, не всегда это было выполнимо. Особенно с начала учебного года, когда учеников у меня еще не было. Уроки рекомендовал мне всегда директор училища, Андрей Михайлович Пантелеймонов. Этого доброго благородного человека, его заботы обо мне и горячее участие в моей судьбе, — все это я никогда не забуду. Это был человек, как говорится, у которого сердце всегда на ладони. Он в Александровске заменил мне отца, беспокоился обо мне и делал много добра. Мне и Мите, которого он по моей просьбе перевел из Молочанска в Александровск в свое училище, директором которого он был. Впоследствии, уже в 1945 году, я встретился с ним и его женой Аполлинарией Филипповной, которая была учительницей Шуры в женской гимназии Павленко. Встретился в Харькове, где они жили в доме рядом с нами, и мы часто гуляли вместе, сидели в сквере и вспоминали былое... Хорошие были люди, достойные. Он в Харькове был профессором медицинского института и заведовал кафедрой латыни. Был членом партии. Он был тогда уже стариком и, как и все старики, любил вспоминать прошлое, все, что было: училище наше, преподавателей, учеников своих, вечера, новогодние балы и многое другое. Вспоминал и часто приговаривал: «Эх, житейское море — где это время, где эти люди, где эти годы?..»
Обычно уроки получал я следующим образом. К директору обращались богатые люди — родители с просьбой рекомендовать им репетитора для сына. И вот он меня и рекомендовал. А когда «сам директор» называет мою фамилию, то уж тут хочется взять именно меня, не торгуясь об оплате. Чтобы избавить меня от этой неприятной, щепетильной, но вместе с тем очень важной для меня процедуры, Андрей Михайлович сам называл размер гонорара. Он лучше меня знал «карман» богача, и не было случая, чтобы он «продешевил».
Всегда в первый же день занятий Андрей Михайлович вызывал меня, расспрашивал, где и как я провел лето, отдохнул ли немножко, и первым делом выдавал мне бесплатные талоны на весь месяц за усиленные завтраки: две котлеты с пюре, вместо одной, которая полагалась в обычной порции, и стакан какао с пончиком. (Отмечу, кстати, что не только завтраков, но и обедов таких я у своих родителей не получал. ) А потом спрашивал: «Ну, Барац (он называл меня не Барац, а с ударением на первое «а» — Барац) уроки нужны?»
Я, конечно, отвечал утвердительно.
Проходит несколько дней. Идет, как теперь помню, урок французского языка. Открывается дверь в класс, входит служитель и довольно громким строгим голосом говорит: «Барац, к директору». Класс замирает. Что случилось? Неужели разнос! Один только я и преподаватель французского языка, Мосье Жако, не пугаемся: мы знаем, это, наверное, урок. Я иду. Перед дверью директорского кабинета для храбрости останавливаюсь, оправляю свою форменную тужурку (тогда ученики обязательно носили форму) и вхожу. В большом кабинете директора идеальная чистота, паркет блестит, как зеркало, море света и какой-то особенной свежий аромат. За письменным столом торжественно восседает Андрей Михайлович, в своем директорском мундире с блестящими на солнце золотыми пуговицами, выхоленный, выбритый, и кажется, что от него исходит какое-то божественное сияние, как от святого. Напротив него сидит высокий седой господин, в черном фраке, белоснежной рубашке с «бабочкой». Лицо высокомерное, барское. Это был, как потом оказалось, владелец или совладелец завода «Лепп-Вальман» — немец. Теперь это завод «Коммунар», выпускающий автомобили «Запорожец». Завод помещался в Шенвизе вблизи Южного вокзала, довольно далеко от нас. Сын этого богатого немца был на один класс моложе меня, лентяй и оболтус, заниматься не любил. Больше всего его интересовали лошади — рысаки с папашиной конюшни — и голубятня с чудесными голубями. Все эти подробности я узнал, конечно, уже потом. Вот вхожу в кабинет, становлюсь у дверей — так полагалось — и между нами происходит такой разговор:
Я. Вы меня звали, Андрей Михайлович?
А.М. Барац, вы возьмете урок? Заниматься нужно с сыном этого господина, готовить с ним уроки все дни недели кроме воскресенья.
Я. Возьму, Андрей Михайлович.
Немец (с ярко выраженным немецким акцентом). Очень хорошо. Напишите прямо с завтрашнего дня, в шесть часов вечера.
Немец есть немец, и первый вопрос его был: «Давайте договоримся о размере вознаграждения за ваш труд».
Тут инициативу перехватывает Андрей Михайлович, не дает мне ответить и говорит: «Оплата известная — двадцать пять рублей в месяц».
При такой ситуации немцу ничего больше не остается, как согласиться. Не станет же он торговаться с директором. Двадцать пять рублей по тем времена были большие деньги. Курица стоила 40-50 копеек, коробочка сардин — 18 копеек, фунт колбасы 25-30 копеек, бублик одну копейку и т. д. Я бы никогда не решился назвать такую баснословную сумму.
И вот на другой день я пошел к этому ученику. С Шурой мы договорились, что она будет ждать меня с урока у парадного входа в их дом, и мы вместе пойдем погулять. После занятий ученик мой, очевидно, чтобы сразу установить со мной хорошие отношения, спрашивает меня, где я живу. Я назвал свой адрес. «О, это же порядочное расстояние, говорит он, я сейчас узнаю, если наши лошади дома, я отвезу вас домой. Выходите и ждите меня у подъезда».
Я так и сделал, вышел и жду. Смотрю, подкатывает к подъезду двухместное лакированное ландо на резиновом ходу. Впряжен в ландо горячий вороной рысак, который, когда его осадили, бьет копытами, храпит, косит глаза и не устоит на месте. Как в сказке! А за кучера сидит... мой ученик.
Не буду описывать, как этот рысак вихрем подхватил нас и понес. Это было тоже, как в сказке: конь бежит, земля дрожит. Скажу только, что я и не заметил, как очутился на нашей улице, и мой «кучер» с шиком подкатил ландо к парадному. Не в этом дело. Суть в том, как встретила меня Шура. Как сейчас, она стоит предо мною у парадного. Как сейчас, вижу ее родниковой чистоты большие серые глаза, которые всегда светились, будто[?]. Кто видел эти глаза, тот не мог не заметить их теплого доверчивого сияния. Может быть, другим они ничего не говорили. Не знаю. Но мне они, казалось, всегда шептали: любите нас, любите. И я любил.
Когда ландо укатило, Шура подбежала ко мне и с тревогой спросила: «Что это? Что случилось?» Я успокоил ее и все объяснил. Она говорила мне: «Я все время выглядывала на угол и ждала тебя, чтобы пойти навстречу. Я никогда не думала, что ты подкатишь ко мне на таком выезде. Такое и в голову не приходило». Мы много вместе смеялись, мы были молоды, мы любили.
Где ты, где ты, золотая пора юности нашей?!
[1] Отходы при молотьбе и очистке злаковых.
Юность
Период второй
Первая мировая война началась в июне 1914 года. Длившийся с сентября 1914 года до конца мая 1915 года учебный год я проучился в Кременце, а затем училище наше свернулось, переехало в город Александровск и там слилось с Александровским восьмиклассным коммерческим училищем имени графа С.Ю. Витте. Туда, в город Александровск, переехал и я в начале сентября 1915 года и был зачислен в седьмой класс. Таким образом в качестве ученика я провел в Александровске 1915, 1916 и 1917 годы.
Много, очень много горя принесла нам война. Подчеркиваю, не только мне, а нам, всей нашей семье, которую война выбила из колеи привычной жизни, из нормального русла, заставила бросить все, – квартиру, обстановку и все, быть может, незавидное, но с трудом приобретенное, личное хозяйственное обзаведение, оставить годами насиженное место и переселиться в неведомые края, вначале в Воронеж, а потом оттуда в Тамбов в качестве беженцев, как там называли лиц, не пожелавших остаться у немцев и переехавших с семьей и незавидным скарбом своим в глубь России.
Для нашей небогатой семьи это означало полный раздор. Вам, вероятно, приходилось видеть птиц, у которых злые люди или какое-нибудь стихийное бедствие разорило гнездо, – видеть, как они, оставшись без крова, носятся вокруг разоренного гнезда, беспомощно облетают его, издавая полные тревоги крики, не будучи в состоянии помочь своему горю. Так это же птицы, а как же должны были чувствовать себя люди? Что должна была испытывать семья наша, – отец, мать и четверо детей, мал-мала меньше, оставшись без крова без средств к существованию в чужом городе, где нет друзей, ни одного даже знакомого, кто мог бы хотя бы в первое время протянуть руку помощи. Она, семья наша, покинула Ровно уже после меня, я не видел всего этого грустного расставания с родным пепелищем, не мог разделить с ними свалившегося на них горя, но хорошо представляю себе их тяжелые переживания.
Вообще говоря, условия жизни в нашем городе начали ухудшаться с самых первых дней войны. Город Ровно находился в ста километрах от границы с бывшей Австро-Венгрией, которая вела войну с нами в союзе с Германией на юго-западном фронте. Первое время наша армия добилась некоторых успехов, перешла границу с Австрией у города Радзивилово и продвинулась далеко в глубь территории врага в направлении Броды-Львов до города Перемышля. Однако успех этот оказался временным. Спустя несколько месяцев войны Германия перебросила на юго-западный фронт в помощь своему союзнику часть своих войск, и наша армия начала отступать, терпя поражение за поражением. К началу лета 1915 года город Ровно стал прифронтовым городом, которому суждено было испытать все тяготы войны и связанные с ней лишения и страдания, я, конечно, не в состоянии описать историю первой мировой войны и раскрыть причины поражений наших войск. Это дело военных историков. Я могу только рассказать о том, что я, как рядовой обыватель, видел вокруг себя, испытал на себе и сохранил в своей памяти. А хлебнул я в те времена вместе со всей нашей семьей достаточно много горя.
В начале войны, в период, когда наши войска вторглись довольно далеко на территорию врага, в нашем городе чувствовалось только дыхание войны, только отголоски её. Но когда наши армии стали откатываться, а фронт приближаться; на город обрушились все невзгоды прифронтовой полосы. Прежде всего это сказалось в том, что железная дорога, перегруженная до отказа перевозкой войск и военного снаряжения, перестала транспортировать гражданские грузы, и как город Ровно, так и соседние с ним города и населенные пункты, расположенные вдоль Юго-западной железной дороги, остались без регулярного подвоза продовольственных товаров и предметов первой необходимости. Автотранспорта в те годы тоже не было: за всю войну я видел только две-три армейские грузовые машины. Частного автотранспорта, ни грузового, ни легкового, вообще не существовало. Оставался один только выход: гужевой транспорт, на котором и перевозились все гражданские грузы, все товары торговцев и купцов, в руках которых в то время находилась торговля. Началась своего рода «лошадиная лихорадка», во многом напоминавшая так красочно описанную Джеком Лондоном золотую лихорадку Клондайка. Все бросились покупать лошадей и телеги и занялись их эксплуатацией, – за определенную плату перевозили частные товары. Этой лихорадкой заболели и мы: отец купил пару лошадей и телегу, а мне в шестнадцать-семнадцать лет суждено было стать балагулой. Столько трудов, переживаний и горестей пало на мою долю в связи с этой новой, совершенно незнакомой и чуждой мне профессией, – об этом я коротко рассказу несколько ниже. Забегая вперед, отмечу только, что эта непродуманная затея кончилась крахом: в конце концов, как мне потом рассказывал отец, пришлось из-за отсутствия корма выгнать лошадей, как говорится, на все четыре стороны, а телегу оставить во дворе как ненужную вещь, – пропадай моя телега, все четыре колеса. И вот поскольку мне в должности балагулы пришлось изрядно колесить дорогами войны по разным городам и весям, я многого насмотрелся, многое видел на своем пути. Конечно, я мало разбирался в том, что творилось вокруг меня. Мой взгляд скользил только по поверхности событий. Я был политически, экономически совершенно безграмотным, абсолютно темным человеком, не понимал, что это такое, – война, кому она на руку, кому нужна. Я читал газеты, в которых причина вспыхнувшей войны объяснялась тем, что вот, мол, сербы (было тогда, такое государство) убили в Сараево эрцгерцога Австрии, и Франц-Иосиф, австрийский император, напал на Сербию, чтобы отмстить за пролитую кровь австрийского наследника престола. Тогда Россия, в свою очередь выступила на помощь сербам и ввязалась в войну. Все это я читал в газетах и верил печатному слову. В опубликованном манифесте Русского государя-императора, Николая второго, так и сказано было: «Видит бог, что не в корыстных целях, а выполняя свой долг перед братьями славянами, сербами подняли мы меч свой…» Эти начальные слова царского манифеста я помню до сих пор. Конечно, жалко было убитого человека, погибшего эрцгерцога, но разумно ли, справедливо ли, за его смерть убивать дополнительно миллионы людей ни в чем не повинных, пролить море крови и слез, разорять города и села, согнать людей с насиженных мест и обречь их на муки и страдания, – об этом я как-то не задумывался. Тем более, что история знала такие случаи. Вспомните у Пушкина «Песнь о вещем Олеге», которая начинается словами: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Если это мог сделать Олег, то почему этот подвиг не может повторить Франц-Иосиф? И потом я знал французскую пословицу «а ля гер, ком а ля гер» (на войне как на войне ): убийства, пожары, калеки, сироты, вдовы и слезы, – моря слез вокруг. Чтобы увидеть горячие эти слезы, вовсе не надо было искать места, где они проливались. Мы, например, их видели у себя дома. У нашей хозяйки, которую звали Хымой (Евфимией) было два сына, два красавца, два богатыря. Старший Михаил, женился; его жену звали Песцей. Родился у них сыночек, – Филя. Младший сын, Степа, был холост. Их, обоих сыновей, мобилизовали и угнали на войну. Мы жили с Хымой, как с родной, дружили, делили с ней горе и радость. Первым забрали Михаила. Мы ждали его, но, увы, вместо него пришла повестка, что вот, мол, рядовой, Михаил Корнеевич Лыбак, погиб на поле брани смертью храбрых, погиб «за веру, царя и отечество». Зажмурьте глаза, перенеситесь в те далекие времена и посмотрите, прошу вас: вот сидят на скамеечке перед домом наша мама, Хыма, мать, потерявшая сына-кормильца, молодая вдова, Песця, которая держит на руках сиротку Филю. Они держат в руках зловещую повестку, сидят и льют горячие слезы. Сколько их пролилось? Не знаю, не могу сказать, но думаю, что их, слезы этих, хватило бы на поливку большого хыминого огорода площадью в два гектара в самую знойную летнюю пору. Помните этот город, дорогие мои Рая и Сюзик? Конечно, ни Николай второй, ни Франц-Иосиф этих слез не видели, ну а я видел, и не один раз! На войне как на войне!
Вспоминая теперь родной наш город Ровно, я вижу, как весь облик его в период войны совершенно изменился. Кажется, тот же город, те же площади и улицы, те же дома, и вместе с тем все как-то изменилось, стало не таким, каким было. Идешь по городу и внутренне ощущаешь, что на всем, что тебя окружает лежит отпечаток какой-то тревоги, ожидания чего-то плохого. Все вокруг помрачнело, все затянуло темной тихой грустью и пребывает в скрытом каком-то оцепенении, не предвещающем ничего утешительного, ничего хорошего. Повсюду чувствуется тревожное ожидание грядущей беды, обреченная готовность к тяжелым испытаниям, которых не миновать, которые могут наступить внезапно, в любой момент.
Город наводнен был военными разных родов войск: артиллеристы, кавалеристы, пехота, саперы, персонал медицинских служб, связисты, инженеры, штабисты. Хорошо запомнились казаки. Они расквартированы были на окраинах города, где жили крестьяне и имелись конюшни для лошадей, клуни, сараи, амбары. Стояли казаки и у нас: донские, с красными лампасами, оренбургские, – синими. Чем ближе продвигался к нам фронт, тем ярче вырисовывались прифронтовые черты нашего города, превратившегося в конце концов в военный лагерь. Под влиянием, очевидно, военных неудач, неумелого ведения войны со стороны некоторых военачальников, замешательства и неразберихи, которые имели место в армии, – в 1915 году, то есть спустя год войны, железная дисциплина, которая всегда царила в армии, несколько ослабла и стала расшатываться.
Вероятно, это в значительной степени явилось и следствием агитации, которую тайно вели среди войск революционно настроенные элементы. Помню, среди расквартированных в нашем дворе казаков, с которыми из-за любви к их умным, послушным лошадям, я проводил большую часть дня, я наслышался таких «вольных» разговоров, таких по тому времени крамольных суждений, что только диву давался, откуда это у них, и как они позволяют себе такие слова в адрес царского престола, в адрес генералов и офицеров. А это ведь было казачество, – верный в то время оплот царизма, казачество самая реакционная часть армии, в военное время всегда сражавшееся «за веру, царя и отечество», в мирное время – всегда направлявшееся на усмирение рабочих восстаний и крестьянских бунтов. Нет, это были уже не те казаки. Это было уже началом конца, зарей революции 1917 года. Не знаю, я мало понимал в то время в революционном движении, но думаю, что это было именно так, – это занимался рассвет…
Помню стоял у нас во дворе среди прочих казаков один молодой, двадцатилетний казак, – Вася. С ним у меня почему-то сложились особенно хорошие отношения. Сближение это произошло на почве любви моей к его лошади, которую звали Зорькой. Это была рыжая, красивая, статная лошадь, со звездочкой на лбу, на высоких, тонких ногах в белых «чулках» и нежными, бархатными губами. Когда я подавал ей на ладони кусочек сахара, она осторожно брала его, касаясь трепетными, шелковыми своими губами моей руки, и это было мне так приятно: ни у одного животного нет таких замечательных, ласковых губ. Вася рассказывал мне, что в их станице каждый казак имеет свою верховую лошадь, которую смолоду сам растит, кормит, поит и воспитывает под наблюдением старших, обучая её премудростям верховой езды на разных аллюрах. Зорька очень любила своего хозяина, понимала все слова его команды, подбегала к нему по первому зову, во всем слушалась его. По предложению этого молодого казака я называл его просто Васей. Он и меня хотел называть по имени и спросил, как меня зовут. Я ответил: Ицык. Он пожал плечами и сказал «что-то больно крученное имя, никогда такого не слышал, его выговаривать трудно. Буду называть тебя просто – паря, это будет по-нашему». Так, парей, он меня и называл. Часто, когда он освобождался от своих служебных обязанностей он звал меня: паря, идем погуторим. Я тогда уже узнал, до произведений Михаила Шолохова, что «погуторить» – это значит, «поговорить». Вася очень тяготился разлукой с необъятными просторами донских степей, тосковал по родному дому, по полноводному тихому Дому. На мой вопрос, почему их казачью дивизию направили в тыл, он пояснил, что в связи с тем, что наши войска все время отступают, им, казакам, на фронте негде развернуться, не к чему приложить свои руки. «Мы, казаки, сказал он, приспособлены только к стремительным набегам в наступательных боях. Мы, как вихрь, на наших лошадях, шашки наголо, пики на изготовку, с шумом и гиком внезапно налетаем на врага там и тогда, где и когда он нас не ждет, сея страх и панику. А теперь, при отступлении, – что нам делать на войне? Фронт удерживать не можем, к длительной обороне не обучены, ни пулеметов, ни пушек нет у нас. Вот нас и отвели в тыл. Здесь, по ночам, нас посылают на винокуренные заводы, где мы уничтожаем запасы спирта, посылают в богатые имения, где палим скирды соломы, запасы сена, амбары с зерном. Добра сколько гибнет – душа болит: люди сколько сил положили, сеяли, растили, убирали, и все идет прахом, все под огонь. Да еще вот пленных сопровождаем пешим порядком в тыл. По железной дороге, говорят, не можно – вагонов нет. Да еще обозы охраняем, да на железнодорожных станциях за порядком следим. Бывает, гурты скота в тыл угоняем, чтобы врагу не достались».
Он, видимо, казак этот, Вася, правду говорил. Да и чего было ему обманывать меня? Парень он был простой бескорыстный, я бы даже сказал, чистосердечный. Человек, как говорится, от сохи, дитя природы. Его посылали – и он шел, ему приказывали – и он исполнял. Тем более, что я кругом себя, и днем, и ночью, видел подтверждение его слов и убеждался в их правдивости.
По утрам, когда казаки возвращались из своих ночных экспедиций, они особенно бережно относились к своим баклажкам, которые имелись у каждого солдата. Это объяснялось, как мне по секрету поведал Вася, той простой причиной, что при уничтожении спирта казаки набирали себе полные баклажки его. Этим спиртом они как-то раз даже угощали нашего отца.
Ночью, когда выйдешь, бывало, во двор, можно было видеть в полнеба зарево полыхающих вокруг города пожаров: это горели уничтожаемые огнем скирды соломы, сена и хлеба.
Часто мимо нас гнали огромные гурты скота, направлявшегося подальше от прифронтовой полосы по дороге Житомир – Киев. Эти гурты сопровождали верхом на лошадях казаки.
По этой же дороге время от времени следовали пешком в тыл на север большие партии пленных австрийцев. В рядах австрийской армии было много украинцев, чехословаков, венгров, которые не хотели сражаться за «лоскутную империю» Франц-Иосифа и тысячами сдавались в плен. Этих военнопленных сопровождали верхом на лошадях казаки.
Время шло, и отступление наших войск продолжалось. И чем ближе приближалась полоса, чем ближе к городу продвигался фронт, тем тревожнее становилось в нем, тем все более и более усложнялись условия жизни гражданского населения. Все чаще и чаще можно было встретить нетрезвых солдат и офицеров – первый признак расшатанной дисциплины, без которой армия не армия. Участились случаи грабежа и мародерства. По ночам можно было услышать крики жителей города, призывающих на помощь. То тут, то там слышны были винтовочные выстрелы. Жить в городе стало небезопасно, и люди стали покидать его.
Запомнилась и врезалась в память жуткая картина отступления войск – потрясающего зрелища, которое я наблюдал на протяжении многих часов на главной улице города. Эта улица шла от юго-западных окраин города и была частью специально проложенной военно-стратегической дороги, которая вела от самой границы с Австрией до нашего города и дальше на Корец, Новоград-Волынск до самого Киева. По этой дороге и шло отступление. Это была непередаваемо жуткая картина. Не отступление, а бегство какое-то.
Представьте себе узкую, шириной не более пяти-шести метров улицу, по обеим сторонам которой стоят невысокие двухэтажные кирпичные дома. Движение идет только в одну сторону в направлении Киева. По этой улице встречному транспорту нет места – для него дорога закрыта. Следует помнить, что весь транспорт только гужевый – лошадь, телеги, повозки, пушки, санитарные двуколки, походные кухни. Автотранспорта нет и в помине, его тогда не существовало. И вся эта лавина движется только вперед с шумом и треском. Телеги идут впритык, одна к другой, задняя буквально упирается дышлом в переднюю. Идут в два, иногда в три, ряда. В этой темноте лошади движутся, цепляя друг друга боками, наезжая друг на друга, заступая и перепутывая постромки и упряжь. Обтянутые железными шинами колеса телег и повозок стучат по изрядно поврежденной, избитой мостовой, издают не прекращающийся оглушительный лязг и грохот. То тут, то там погонщикам приходится соскакивать с телег и на ходу разбирать и приводить в порядок сцепившуюся и запутавшуюся упряжь рядом идущих лошадей. Эта работа выполняется на ходу (остановиться нельзя – задние сомкнут), под крики и ругань кучеров, под многоэтажную брань, в которой родная мать, господь-бог и даже святая, непорочная матерь божья, богородица, выступают в качестве главных действующих лиц.
Самое ужасное впечатление среди всего этого хаоса производит рогатый скот, который угоняют в тыл по этой же забитой транспортом дороге. Обалдевшие в сутолоке и царящей вокруг толчее, перепутанные стоящими вокруг трескотней и шумам, подгоняемые ударами бичей погонщиков, бедные животные, быки и коровы, с налитыми кровью глазами беспорядочно мечутся между месивом телег и повозок, снуют во все стороны, забегают в закоулки, становятся поперек дороги, выскакивают на тротуары, мычат и ревут, усугубляя царящую вокруг неразбериху и сумятицу. Бедные животные! Оказывается, не только миллионы полных сил молодых людей, но и не меньшее количество четвероногих ни в чем не повинных животных должны расплачиваться за убийство австрийского эрцгерцога, которое совершено было где-то в девятом царстве, в тридесятом государстве, в каком-то городе Сараеве. Да, жуткая это картина – отступление. Жуткая, страшная, незабываемая. Отступать тоже надо умеючи! Что ж, война есть война, и на войне как на войне…
Много часов я стоял и наблюдал за всем этим волнующим зрелищем, а конца так и не дождался. Но и того, что видел, было достаточно, чтобы понять, что скрывается за этими ужасным, грозным словом – «война», какие муки и неисчислимые страдания несет она людям и сеет вокруг себя. На эту тему много сказано, много написано, — добавить нечего.
* * *
Как же протекала моя жизнь в этих суровых условиях войны с июня 1914 года до сентября 1915 года, то есть до моего отъезда из Ровно в Александровск?
Я говорил уже, что, когда осенью 1914 года в связи с войной Юго-западная железная дорога прекратила перевозку гражданских грузов, многие стали покупать телеги и лошадей и занялись перевозкой товаров, принадлежавших частным торговцам. Возили в разные города, расположенные вокруг Ровно на расстоянии от сорока до двухсот верст. Пару лошадей купили и мы в надежде, что сумеем извлечь из этой операции дополнительный доход к заработку отца. Казалось бы, дело это очень простое – были бы лошади и телега. Погрузи восемьдесят-девяносто пудов груза (полторы тонны), сядь на телегу, возьми в руки кнут и вожжи и погоняй. Доставишь груз, разгрузишь телегу, получай деньги и возвращайся обратно домой. Чего проще? Вернулся, опять нанялся, и в следующий рейс таким же порядком. Простая, легкая работа, даже никуда ходить не надо, все время на колесах, шага пешком не делаешь. И вот я проездил на этих лошадях август 1914 года, потом две недели декабря – рождественские каникулы, а потом по окончанию учебного года, с конца мая и до сентября 1915 года. Захватил таким образом часть зимнего периода и все лето 1915 года. Увы, оказалось, что все это на самом деле не так просто. Оказалось, что для того, чтобы быть балагулой надо многое знать: понимать в уходе за лошадьми, в конструкции телеги, колес, сбруи, в профиле дорог, в ее состоянии, в прогнозах погоды и капризах природы, в направлении ветра, в качестве овса и сена и во многом другом. Оказалось, что эта новая для меня, простая на первый взгляд, профессия, этот транспортный «процесс» имеет свою «технологию», свой твердый порядок, нарушение которого чревато большими неприятностями и даже горестями. Оказалось также, что для этой специальности надо иметь соответствующую экипировку – спецодежду и спецобувь – и знать, что, когда одевать и обувать. Наконец, кроме всего этого, надо иметь соответствующее здоровье. Надо иметь силу в руках, в ногах, в плечах – силу, чтобы взвалить на плечи мешок сахара, или муки, или зерна, весом в пять пудов и пронести его сто или полтораста метров от телеги к складу или, наоборот, от склада к телеге. Надо иметь силу, чтобы снести такой груз со второго этажа и, что гораздо труднее, внести его на этот этаж. Надо иметь силу, чтобы, когда ты на дороге попадешь колесом в выбоину, подважить телегу плечом, упираясь руками в колени, и крикнуть, что есть мочи, лошадям: «Ну, взяли, милые, пошли, пошли, маленькие». А они, эти умные, знающие свое дело, животные, немедленно подхватят застрявший воз и вытащат его на дорогу. Ты, обрадованный тем, что выскочил из беды, подойдешь к ним, погладишь по холке, почешешь за ухом – они это любят, – и ты видишь, как они косят на тебя свои большие фиолетово-синие глаза: спасибо, мол, за внимание.
И здесь мне хочется остановить свое повествование и воздать должное этим благородным животным, этим вечным труженикам, верным помощникам рода человеческого, отдающим людям на протяжении многих веков и тысячелетий плоды своего тяжелого, изнурительного труда. Люди в большом долгу перед лошадью, по-моему, должны были бы на площадях, на самых видных местах своего обитания, воздвигать памятники-монументы в честь лошади, как это сделал академик И.П. Павлов в память собак, сослуживших великую службу развитию физиологии. Эти монументы лошадям должны были бы увековечить память об этом прекрасном творении природы, о ценном вкладе, который оно вложило своим трудом в развитие человеческой жизни, человеческой культуры. Что касается меня, то я до сих пор помню и никогда не забуду двух моих лошадей, каурого и гнедого, с которыми я рядом трудился, которые делили со мною все тяготы и горести пути, выпадающие на долю балагулы: зимнюю стужу, летнюю жару, неприглядную темень осенних ночей под проливным дождем, завывание метели в поле, когда кругом ни зги не видать – одна снежная круговерть – и много других испытаний, которые, повторяю, выпадают на долю незадачливого, малоопытного в своем деле парня-юнца, когда он находится в дороге за сотни верст от родного дома, вдали от человеческого жилья, в незнакомых местах, с двумя лошадями и грузом в полторы тонны на телеге. Вы, читающие эти строки, вероятно, смеетесь надо мною: вот, мол, глупый старик, нашел о чем писать – о лошадях. Вот до чего доводит человека безделье. О нет, вы глубоко ошибаетесь. Считали ведь возможным общепризнанные великие писатели писать о животных и оставили после себя в наследство благодарным потомкам такие прекрасные произведения, как «Изумруд» Куприна, «Холстомер» Толстого, «Мафусаил» Шолом-Алейхема. И не только о лошадях, но и о собаках – «Белый клык» Джека Лондона, «Зов предков» его же, о воробьях – Тургенев и Горький, о скворцах – Куприн. Вспомните произведения Э. Синклера, Пришвина, Пермитина, Бианки и многих других замечательных мастеров художественного слова. Что они тоже глупышкины и бездельники? Нет, конечно. А ведь написали. Нашли время.
Нет, мне не стыдно писать о моих лошадях. О том, как они трудились рядом со мною, как прощали мне все промахи мои и главный мой грех, что я по недомыслию своему, по ребячьей глупости своей имел нахальство взяться не за свое дело – дело, в котором ничего не смыслил, – и этим обрек и себя, и их на неумные дела, безрассудные поступки и рискованные шаги, которые могли привести к печальному исходу, даже к трагическим последствиям. И теперь, вспоминая эту тяжелую, полную непосильного труда, переживаний и волнений, дорогу юности моей, я часто думаю: как я, глупец и недоросль, мог решиться на такое? И почему родители мои не запретили мне так поступать? Почему разрешили пуститься в такую авантюру – другого имени я не могу подобрать для этой бездумной «деятельности» моей. Не только не запретили, но даже санкционировали, до некоторой степени направили на этот полной риска путь. Ведь я знаю, что они меня любили, много делали для меня. Здесь может быть только одно объяснение: они, люди далекие от профессии балагулы, просто не знали, не имели ни малейшего представления о том, с чем связана была для меня эта работа, с каким не по силам и не по уму трудом, с каким подчас риском для жизни. Опишу только некоторые тяжелые положения, в которые я попал.
* * *
В декабре 1914 года я приехал домой на рождественские каникулы. Договорившись с каким-то купцом, я подрядился перевезти в город Дубно, находящийся в сорока километрах от Ровно, девяносто пудов (полторы тонны) сахара. Кругом лежал снег, и я решил ехать на санях, а не на телеге. Было градусов двенадцать мороза, но с ветром, который дул уже несколько дней. Я был совершенным профаном в извозном деле, ничего не понял в погоде, в частности, и в том, какое влияние она оказывает на дорогу и ее состояние. Между Ровно и Дубно проложена была шоссейная дорога по весьма пересеченной местности. Дорога все время шла то в гору, то с горы. Я надел свою школьную шинель, ботиночки, галоши, фуражки – другого ничего у меня не было – и в таком виде, подгрузив восемнадцать мешков сахара, отправился в путь-дорогу. Ни овчинного полушубка, ни теплой шапки, ни рукавиц, ни сапог, ни валенок – ничего этого я не имел. Сам я не узнал, и никто мне не подсказал, что я совершаю безумный поступок, отправляясь зимой в таком виде в дорогу. В этом я на горьком опыте убедился уже только в пути, когда было уже поздно. Вначале все шло более-менее нормально. Я отдыхал первые шестнадцать верст и прибыл в стоявшую у дороги корчму. Правда, я изрядно замерз в санях, сидя в своей шинельке «на рыбьем меху», открытой всем семи ветрам. Особенно отогреваться и отдыхать в корчме не позволяло время: надо было обслужить лошадей, а это не так-то просто – это труд, труд вне помещения, во дворе на морозе. Лошадь — это не машина, это живой организм, требующий ухода. Это не двигатель, в бак которого стоит только залить горючее, и дело с концом, езжай дальше. Лошадь в пути от напряженной работы «разогревается», прибывает на остановку горячей, потной. Ее надо накрыть рядном, чтобы она на морозе не простудилась, и прежде всего дать остыть. Боже сохрани дать ей сейчас же воды или овса: вы останетесь с телегой, но без лошади – она тут же свалится. Можно дать только сено и терпеливо ждать часа полтора. Каждый раз выходишь во двор проверить, остыла ли она, обсохла ли. Потом, когда это время, наконец, наступит, надо лошадей напоить. Отправляешься к колодцу и вытаскиваешь четыре ведра воды, каждой по два ведра – больше нельзя. Колодец и подступы к нему обледенели, холодно и скользко, того и гляди шею свернешь. Своим ведром в колодец лезть нельзя. На специальном вороте висит большое, тяжелое деревянное ведро, как бочонок, который для крепости окован железом. Попробуй, потягай, вытащи, перелей в свое ведро и неси за сто метров к лошадям. После этой малоприятной операции задаешь овес, главный корм, дающий силу. Каждая лошадь должна в сутки съесть тридцать фунтов овса – без этого она не работник. Сено это не корм, от него сытым не будешь, оно съедается только между прочим, как легкая закуска, которая принимается между делом. Лошадь балагулы, выполняющая тяжелую, изнурительную работу, находящаяся в постоянном движении, всегда в пути, должна либо двигаться, либо, когда она стоит, есть. Она не должна тратить попусту время, его у нее очень мало. Газет она не читает, она должна все время принимать пищу и, прежде всего, овес.
Наконец все дела сделаны, лошади накормлены, еще раз на дорогу напоены, и я тронулся в дальнейший путь, чтобы засветло приехать в Дубно, разгрузиться, опять накормить лошадей и отправиться домой. Я отъехал верст десять и стал взбираться на очередную, самую высокую гору, лежавшую на моем пути. И, о ужас, оказалось, что верхняя часть этой горы бесснежна. На участке длиной метров в двести дувшие последние сильные ветры согнали весь снег с дороги, и она стоит, зияя черными булыжниками мостовой, как бездна. О том, чтобы протащить по ней сани с тяжелым грузом в девяносто пудов не могло быть и речи — это никаким лошадям не под силу, я пробовал, но безуспешно. Что было делать мне одному среди поля, беспомощному глупому парню, взявшемуся не за свое дело, темному, ничего не понимающему, ничего не знающему? Нет, кое-что я, конечно, знал. Знал алгебру, квадратные и биквадратные уравнения, геометрию – планиметрию и стереометрию, знал географию, историю, неплохо и грамотно писал сочинения. Но всего этого в данной ситуации вовсе не нужно было, а то, что здесь требовалось, – правила дорожного движения – этого я не знал. Через некоторое время навстречу мне появился пожилой мужичок в овчинном тулупчике, в валенках и заячьей шапке. Он остановился, посмотрел на меня, на «хозяйство» мое, почесал затылок и стал меня журить: «Эх ты, дурной хлопец, что ж ты на санях в такую погоду и с таким тяжелым грузом тронулся в путь? Что ты не понимаешь, что ветер в открытых местах на гребнях гор сдует с дороги снег? Да и оделся ты не по-зимнему, замерзнешь ведь. Как тебя батя твой пустил в таком виде по такой погоде. Или он у тебя воюет – дома нет его?» Что было мне ему ответить? Сказать, что мой «батя» дома, но что он, отец мой, понимает в гужевом транспорте столько же, сколько он, мужичок этот, в законах движения небесных светил – что это даст? Кому это нужно? И я промолчал. Пожурив меня по-отечески, он помог мне разгрузить сани. Мы разделили груз на три части, лошади на облегченных санях протащили его без особого труда по оголенному от снега участку дороги, после чего мы вновь уложили весь сахар на сани. Мужичонка успокоил меня, сказав, что он едет из самого Дубно и по дороге больше таких голых участков нет. Я заплатил ему пятьдесят копеек, и мы разъехались в противоположные стороны. Я засветло приехал в Дубно, сдал груз, получил плату за провоз и поехал на постоялый двор, где опять повторил всю процедуру кормления лошадей. Закончив эту работу, я несмотря на то, что подвигались уже сумерки, решил возвращаться домой: чего, мол, зря терять время, дорога мне известна, сани порожние, без груза легкие, кони сытые, отдохнувшие, переметы мне не страшны. Сел в сани и поехал. Это была вторая глупость, которую я совершил в эту поездку, – глупость, за которую мне вскоре пришлось расплачиваться. Я успел отъехать уже от Дубно верст десять. Сумерки все более сгущались, надвигалась ночь. Лошади легко тащили за собой сани и трусили рысцой. Я сидел, развалившись в пустых санях, и затянул даже любимую песню мою про Ермака. Но кругом улавливалось каким-то шестым чувством ощущение надвигающейся перемены погоды. Эта перемена вскоре и наступила. Небо заволокло мутными, белесыми тучами, за которыми скрылась луна и исчезли звезды. Подул ветер. Порывы его все более усиливались, подымая вокруг снежные завихрения. Пошел снег. Ветер дул нам на встречу, подхватывал его и швырял в лицо. Лошади пошли шагом. Прошло еще некоторое время, и началась сильная метель, которая и в городе весьма неприятна, тем более в поле, где ты один, где несешь ответственность за себя, за лошадей, которыми ты обязан «править», направлять по верному пути, чтобы прибиться к какому-нибудь жилью и там обогреться и переждать пока все в природе утихомирится. Между тем метель разгулялась во всю свою стихийную мощь. Небо слилось с землей. Все вокруг завернуто было в белую туманную пелену, затянувшую весь мир. Даже лошади, впряженные в сани, плохо видны. Только гривы их и хвосты трепещут на ветру, подхватываемые порывами вихрей. Впереди исчезла и не просматривается больше лента дороги. Все смешалось и окрасилось в один цвет – цвет серо-белой снежной скатерти, накрывшей и дорогу, и поля вокруг. Я остановил лошадей и сошел с саней, чтобы осмотреться и установить, по дороге ли я еду или сбился с пути и заблудился. Смотрю вокруг себя близорукими своими глазами и не могу ориентироваться – плохо вижу, а ветер швыряет в глаза снег и еще более ухудшает зрение. Снег да снег; везде и повсюду снег: в глазах, в ушах, за воротником шинели, за пазухой, на лошадях, на санях… Кнут мой привязан к длинной тонкой ручке (пужалну). Я сую ее в снег, лежащий на дороге, и она вся уходит под снег. Ясно: я не на мощеном шоссе – булыжник не пропустил бы ручку, я в поле. Что делать? Куда ехать? Я же кучер, я должен управлять лошадьми и, используя вожжи, указывать им дорогу, по которой следует двигаться. Я подхожу к лошадям, сметаю с них снег, поглаживаю их головы и крупы, поправляю сбрую. Они смотрят на меня большими своими глазами и мне кажется, умей они говорить, они с упреком сказали бы мне: «Эх ты, Аника-воин, плохой с тебя хозяин. Горе нам с тобой». И вот я принимаю решение: предоставлю лошадям своим самим выбраться на дорогу, они, как я неоднократно в этом убеждался, умеют находить путь ведущий домой. Я сажусь в сани, свободно закрепляю вожжи за передок и громко, что есть силы, командую: «Пошли, милые мои, пошли, потопали потихоньку, помаленьку». Лошади тронули и пошли шагом, никем не управляемые.
Между тем метель еще больше разыгралась. Вы помните стихотворение Пушкина «Бесы»?
«Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин…
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!...»
Все было так, как описал поэт. Колокольчика только не было, но это не меняет дело, не имеет значения.
Тревожно было на душе, тревожно и страшно. Я сидел в санях, не двигаясь, и прислушивался к завыванию метели. Порою мне казалось, что это не ветер, не метель, а волки, которые водились в наших лесах, воют, собираясь в стаю, чтобы напасть на нас. На ум приходили рассказы о волках, которые я читал и слышал. Мне мерещились вдали огоньки диких, злобных, волчьих глаз. В таких переживаниях, в таком страхе я провел, вероятно, несколько часов. Но вот лошади вышли на какую-то гору и, о радость, внизу, у подножия горы, я увидел несколько одиноких, слабо мерцающих, манящих огоньков. Это была корчма, что стояла на шестнадцатой версте от Ровно. Здесь я остановился на отдых, отогрелся и стал кормить лошадей. Отсюда я уже в компании с еще тремя подводами отбыл домой.
Лошади бодро бежали: они понимают, что после бурно проведенной ночи их дома ждет теплая конюшня, корм, отдых. По этой дороге их никогда не приходится подгонять, они сами рвутся вперед. Какое это умное, какое благородное животное! Как же мне было не любить своих лошадей? Как можно оставаться равнодушным к этим прекрасным, разумным животным, которые, по-своему, конечно, постоянно проявляли свою преданность, свою готовность служить мне? Я им отвечал взаимностью, никогда не пользовался кнутом, своевременно кормил, поил, чистил, удобно прилаживал упряжь, чтобы не натирала холку и бока. Я предпочитал самому не доесть, не доспать, померзнуть, но их всегда обслуживал вовремя и аккуратно. Эх вы, кони мои, кони мои славные! Как хорошо мы дружим с вами и как тяжело рядом трудились.
* * *
Тяжело было не только зимою. Было тяжело и летом. С мая до сентября месяца 1915 года я провел все свое время в дороге, на колесах, редко ночевал дома. Радости было мало. Опишу одну мою поездку в июле в город Новоград-Волынск, расположенный в ста километрах от Ровно, по уже упомянутой выше стратегической дороге, проложенной до самого Киева. Возил я в этот раз галантерейные товары, упакованные в большие немерные деревянные ящики, не особенно тяжелые, но громоздкие и неудобные для укладки и перевозки. Я долго и тщательно их укладывал, укладывал ребром к ребру, крепко увязал весь этот груз, взобрался на верхотурье – вожжи еле доставали к рукам – и поехал. Такое у меня было ощущение, будто сижу на крыше двигающегося по дороге дома, или на качающейся скворечне. Было девять часов тихого летнего утра с чистым голубым небом, предвещающим знойный день. Через четыре часа я добрался до городка Кореца и там остановился: надо было напоить и накормить лошадей, дать им отдохнуть. В три часа дня я пустился в дальнейший путь.
Для подобного рода путешествий лето, конечно, имеет определенные преимущества перед зимой, и первое из них это то, что ни ты, ни лошади не мерзнут. Однако, в дороге это преимущество часто превращается в свою противоположность: жара отравляет существование и доставляет много трудностей, много неприятностей. И в первую очередь, конечно, лошадям. А лошадь, — это центральная фигура в такого рода поездках, она в этом «спектакле» играет главную роль и определяет успех или провал всей «пьесы». Она и зимой, пройдя пятнадцать – двадцать километров с таким тяжелым грузом, приходит к остановке горячей, покрытой обильным потом, тяжело дыша. Каково же ей, бедной, летом под беспощадно палящими лучами грозного солнца, от которых негде укрыться, негде спрятаться?
Зажмурьте глаза и постарайтесь увидеть. Вот смотрите: едет по шоссе солидная по своим габаритам телега, нагруженная доверху, как воз сена. В телегу впряжены две лошади, одна вороная, справа, другая – гнедая, слева. Лошади рослые, выше средней упитанности. Они идут, не спеша, мерным шагом, шесть верст в час. Вверху, взбодрившись на неуклюжие ящики, восседает молодой худощавый парень. На голове у него фуражка, из-под которой с правой стороны выбивается солидный чуб волос, изрядно выцветших от долгого пребывания под летним солнцем. Жара неимоверная, просто пекло. Дышать нечем. Лошади, не переставая, бьют себе по бокам хвостами, отчаянно мотают головами, отмахиваясь от ни на шаг не отстающих, непрерывно преследующих их оводов, мух и прочего гнуса. Они садятся на лошадей, кусают их, сосут кровь. Бока и особенно шеи у лошадей усеяны этими кровопийцами и сильно кровоточат. Больно смотреть на их страдания.
На парне темная ситцевая рубашка с расстегнутым воротом и засученными по локти рукавами. Он сидит и с высоты, на которую взобрался, созерцает этот удивительный божий мир, это горячее грозное солнце, от которого никуда не спрячешься – нет от него спасения. Он смотрит на бескрайние зреющие поля, волнующиеся от еле заметного ветерка, как море под дуновением легкого бриза. А вот высоко в небе парит ястреб, что-то высматривая на земле. Парит – и вдруг камнем бросается вниз, где, очевидно, заметил добычу. Парень видит, как впереди из придорожного подлеска внезапно выскочил заяц, очевидно, с намереньем пересечь дорогу. Заметив приближающуюся телегу, заяц немедленно поворачивает обратно и скрывается в кустах. Жаворонки то здесь, то там реют над полями, и песни их льются вокруг. Парень сидит и громко распевает песни: ему некого стыдиться, кругом за десятки верст никого нет. Он один в поле со своими лошадьми, наедине с прекрасным миром, так мудро сотворенным, так умно устроенным. Присмотритесь хорошенько, вы узнаете этого парня? Нет, не узнаете? Да это же я, пишущий эти строки. Это я в шестнадцать, семнадцать лет, балагула с коммерческим образованием. И рядом со мною лошади мои, кормильцы мои, своим тяжелым трудом обеспечивающие мне возможность осенью поехать в Александровск, чтобы продолжить образование…
А парень между тем продолжает двигаться вперед, не зная, что через час-полтора ему предстоит пережить неприятные минуты.
Жара. Трудно дышать. И лошади, и кучер изнемогают от духоты. Я смотрю вперед и вижу несколько справа от себя на самом горизонте узкую темную полоску, медленно взбирающуюся по небу и движущуюся по направлению к нам. Проходит некоторое время, и узкая полоска эта все более разрастается и постепенно превращается в тяжелую тучку темно-синего цвета. По туче в свою очередь плывут белые и желтоватые облачка, то и дело меняющие свои очертания, повисая клочьями. Туча продолжает медленно надвигаться и в ярком освещении солнца приобретает какое-то устрашающий, зловещий вид. Ясно, что приближается гроза, и понятно, что после нескольких жарких дней она будет сильной. Я с малых лет боюсь грозы. Даже в доме я тяжело переношу ее – нервничаю, а тут в бескрайнем поле, без крыши над головой, и совсем страшно.
Вы когда-нибудь наблюдали грозу в поле? Поверьте мне, это хоть, быть может, и не лишенное своеобразной красоты зрелище, но его сопровождает вся необузданность, вся сила, свойственная стихийным явлениям. Где-то я читал такие слова: «Человек в старости быстро забывает то, что с ним произошло вчера и сегодня, но хорошо помним далекие годы молодости». Очень верные слова. Я очень хорошо, до мельчайших подробностей, помню эту грозу и то, что я тогда видел и переживал. Помню, как вдруг наступила какая-то особая тишина – тишина-затишье перед бурей, перед грозой, которая держит тебя в состоянии тревожного ожидания чего-то неминуемого, что вот-вот должно случиться и обрушиться на тебя. Именно такая тишина стояла вокруг. Все замерло, притаилось. Исчезли жаворонки и другие птицы. Не стало насекомых, даже оводы перестали нас преследовать, попрятались куда-то. Спала жара, от тучи тянуло свежестью, прохладой. Я слез со своего «насеста» и первым делом выпряг лошадей: мне предстояло спрятаться от дождя под телегу, а лошади могли испугаться грома и побежать, потащив ее за собой.
Вдруг налетел сильный порыв ветра – один, другой. Порывы эти все более учащались и быстро превратились в сильный ветер. Ветер поднял по обочинам дороги тучи пыли, закрутил их в вихри и погнал впереди себя в даль. Под силой ветра наклонились и полегли стеной стоявшие хлебные поля. Молодые, тонкие березки, высаженные по обе стороны дороги, затрепетали, склонились все в одну сторону, покорно пригнувшись к земле. Гривы и хвосты лошадей, подхваченные ветром, развевались, то вставая дыбом, то поникая. Из тяжелой черной тучи упали первые крупные капли, и полил сильный дождь, который сплошной завесой повис вокруг. Началась гроза. Удары громы, могучие, раскидистые, следовали один за другим, не переставая. Казалось, небо рвется на части. Я полез под телегу и приютился там. Вдруг блеснула особо яркая молния и одновременно раздался и сильный, сухой какой-то треск. Казалось, небо над нами раскололось и рассыпалось на осколки. Под телегой кругозор, просматриваемый мною, был ограничен, но я услышал топот лошадиных подков по булыжнику: это кони мои, испугавшись резкого удара грома, побежали. Как хорошо, что я догадался их выпрячь. Если бы я этого не сделал, телега с ее тяжелым грузом прокатилась бы по мне! Гроза продолжалась еще с полчаса и затихла. Туча пронеслась дальше, дождь прекратился. Опять засияло в небе солнце, и я вылез из-под телеги. Первое, что я увидел, — это были лошади. Они отбежали метров на сто от телеги и стояли мокрые, понурив головы. Умытые поля дышали чудесными запахами полевых цветов и зреющих нив. Прохлада и целительная свежесть чистого, полного озоном, воздуха придавали бодрость, прибавляли силы. Я привел обратно лошадей, запряг их и поехал дальше. До следующей остановки было верст двенадцать, а там нас ждал отдых.
* * *
А вот краткая история еще одной поездки. В августе 1915 года немцы были уже совсем недалеко от Ровно – верстах в сорока. Некуда было уже особенно ездить, некому было возить товары. Спрос на транспорт резко упал. Это была беда. Лошадь, как известно, должна все время работать. Лошадь все время ест, а овес и сено стоят денег. Каждый день простоя обходится в несколько рублей, а где их взять – эти рубли? Когда нет работы, когда нет перевозок, — это разорение: лошади съедят вас. И вот для того, чтобы хоть как-нибудь выйти из тяжелого положения, в которое мы попали, я по предложению владельца городской бани согласился поехать в лес, который находился в двадцати километрах от Ровно, за дровами. Лес этот был уже совсем близко от линии фронта. Я выехал с утра, чтобы засветло вернуться домой: подъезжать так близко к фронту даже днем не безопасно, а тем более ночью. Прибыв на лесосеку, я погрузил полный воз дров, крепко увязав этот неудобный для перевозки громоздкий груз и тронулся в обратный путь. Дорога в лесу по просеке тяжелая, перевитая в разных направлениях выступающими на поверхность корнями старых деревьев. Лошади все время спотыкаются, телегу то и дело кидает из стороны в сторону. Пока я проехал пять-шесть километров этого трудного пути стали надвигаться сумерки, и когда я выехал, наконец, на шоссе и вовсе стемнело. Наступила ночь. Я шел пешком рядом с телегой и вдруг заметил, что из-под правого колеса время от времени выскакивают искры. Остановившись и осмотрев колесо, я убедился, что букса колеса дала трещину, а ось, вокруг которой колесо это вертится, сильно разогрелось: плюнешь на нее – слюна шипит, закипая. Это сказались «скачки» тяжело нагруженной телеги по корням деревьев.
Что было делать? Я один в поле с тяжелым грузом, а кругом непроглядная тьма. Вдобавок, очевидно, с наблюдательных пунктов наших передовых соединений начали просматривать шоссе, освещая его яркими прожекторами. Вначале снопы света скользили вокруг, освещая и поля, и придворные лесные насаждения. Помню, я увидел вдали кресты кладбища, по которому бежала большая белая собака. Нащупав меня, мощный сноп света уже не покидал меня, сопровождая по шоссе несколько километров. Я понимал, что на меня обратили внимание, засекли и неотступно следят, не выпуская из поля зрения. А ехать нельзя – искры все время летят из-под колеса, того и гляди загорятся мои дрова. Отъеду двести-триста метров и останавливаюсь, чтобы ось несколько остыла. Так, с горем пополам я плелся и добрался, наконец, до далеких окраин города. Дорогие мои, что я пережил тогда, сколько страха набрался, вы хорошо понимаете: комментарии, как говорится, здесь излишни. Добавлю только, что мне встретился в пути казачий разъезд. Начальник разъезда, проверив при свете карманного фонарика мой ученический билет и выслушав мой рассказ о злоключениях моих в пути, отпустил меня и сказал: «Эх ты, дурная голова твоя, куда тебя черти носят ночью так близко к линии фронта!»
Я продолжал двигаться, очутился уже в черте города, заехал в баню, сбросил дрова и, получив, плату, отправился домой. Было уже два часа ночи. Подъехав к дому, я увидел открытое окно нашей квартиры и маму, наполовину высунувшуюся из окна. Каким-то не своим, полным тревоги, голосом она надрывно крикнула мне: Ицык, это ты? Да, да поспешил я ответить ей, это я, мама, все в порядке. Я подъехал к воротам и удивился: мне их открыла… наша хозяйка, Хыма. Она тоже волновалась, не спала и выжидала меня, стоя у ворот. Она сказала мне по-украински, на своем родном языке: «Ой, лыхо мени. Деж ты був, дытына моя? Маты твоя уси очи выплакала, и я разом з нею. Иды до хаты, лягай, я сама выпряжу коней та поклавду им сина». Вышла к нам и наша мама. Была поздняя ночь. Высоко над нами опрокинулось темно-синее небо, все усеянное по-августовски яркими звездами. Две женщины, две матери, наша родная мать и Хыма, мать погибшего на войне сына ее, стояли вместе рядом со мною. Возбужденные пережитыми волнениями, они плакали, и слезы тихо капали из их глаз на холодную землю. Уставшие лошади нетерпеливо встряхивали сбруей, ожидая, чтобы их распрягали и пустили поваляться по земле. А матери плакали…
Слезы разные бывают. Бывают слезы радости, слезы безутешного горя, слезы тоски и печали. Но слезы матери, — это особого рода, ни с чем не сравнимые, чистые горячие слезы. Они жгут, они западают в душу, от них вздрагивает сердце. Многие писатели в своих произведениях воспели женщину-мать, ее преданность и любовь к детям, которая сильнее смерти. Вы читали, вероятно, древний миф о том, как богиня красоты иголкой случайно уколола палец и несколько капель крови упало на землю. На том месте, где эти капли упали, выросла роза, прекрасная алая роза, царица цветов, с лепестками цвета крови. В память об иголке куст этих очаровательных цветов весь усеян колючими щипами.
Если бы я умел писать, я сочинил бы миф, в котором воспел бы святые материнские слезы. На протяжении долгой жизни своей я видел несколько войн. Видел море материнских слез, пролитых по погибшим на войне сыновьям своим. Я написал бы о том, как старая солдатская мать, положив на алчный алтарь войны жизнь любимого сына своего, льет жгучие слезы, вспоминая его. Слезы одна за другой падают на землю, и в том месте, где они упали, вырос дивный весенний цветок, ландыш. Белоснежные бутоны его цветов похожи на чистые слезы и напоминают матовое свечение жемчуга. Они издают тонкий, волнующий запах благоухающей весны и украшают все вокруг себя. Они, как память сердца. От них исходит какой-то особы, томящий душу, аромат, навевающий тихую грусть и немую печаль. Листья ландыша, широкие, бархатисто-нежные, напоминают раскрытые теплые ладони ласковых материнских рук. Собранные в букет очаровательные цветы ландыша — это как сгусток чистых материнских слез, как воплощение любви, до края переполняющей материнское сердце.
Наступило утро, и свежесть его ощущалась кругами. Я взял маму под руки, повыше локтя, и мне казалось, что тепло ее горячего сердца переливается ко мне, согревает душу, снимает усталость и восстанавливает нарушенное душевное равновесие. Я успокоился и мне стало легко на душе. Слава матерям, дающим жизнь всему живому на земле.
* * *
Как видите, дорогие мои, не только зимой, но и благодатным летом тяжело быть балагулой. Очень тяжело! Легче заведывать кафедрой, читать лекции и заниматься наукой. И платят больше. Каждая поездка в любое время года чревата неожиданностями, приключениями, лишениями. Общее, что есть между ними, это то, что все они связаны с непосильным трудом, переживаниями, которые держат тебя в вечном напряжении, как туго натянутую тетиву. Так в тяжелом труде и в волнениях прошло для меня все лето 1915 года. В сентябре я оставил свой «выезд» и уехал в город Александровск. Наступил третий период моей юности.
Апрель 1976 г.
Юность
Период третий
На старости лет, когда я нахожусь на пенсии, когда особой такой работы нет у меня, и круг моих обязанностей весьма ограничен, у меня много свободного времени, больше даже, чем надо. Я всегда почти один – дети все работают, мало бывают дома. Шура оставила меня навеки. Родные мои волей судьбы разбросаны по разным городам. Что остается делать? Вот я и ворошу в памяти свое прошлое, вспоминаю детство, юность, молодость, зрелые и пожилые годы. Многое осталось позади: люди, встречи, события минувших дней, все, что унесено быстротекущим потоком времени, не знающим передышки, не умеющим остановок. Есть в чем покопаться, что поворошить в памяти своей, что вспомнить.
Нашему поколению выпало на долю прожить свою жизнь в историческую эпоху, прожить годы, которые справедливо называются огненными. Годы, когда в нашей стране развернулись великие события, всколыхнувшие до основания все устои жизни, все ее привычные, извечные нормы. Годы бурные, годы грозные как разбушевавшийся океан. Это был период великой переоценки ценностей, несущий новые порядки, новые взгляды, новое понимание того, что есть жизнь, в чем ее смысл и как следует ее прожить. Годы с такими, например, удивительными лозунгами как «Мир хижинам – война дворцам», «Владыкой мира будет труд», «Мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». И мы, маленькие люди, носились по этому бурному океану как щепки, не понимая толком во имя чего и что, собственно говоря, происходит в этом взбунтовавшимся мире. Носились, как слепые котята, ничего не видели и мало что соображали. Конечно, многое нам было по душе: мы ведь принадлежали к классу угнетенных, мы были бедняками, обитателями не дворцов, а хижин. Каждый из нас был голый человек на голом месте. Но, увы, надо сознаться, мы маловато понимали в том, что творится вокруг. И только теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что это было героическое время, когда все кругом глубоко перепахивалось, перестраивалось, переоценивалось. Это была титаническая работа. И всему этому мы с вами были свидетелями и по мере своего умения, по мере своих сил даже участниками, это были эпохальные дни, которые потрясли не только нашу необъятную страну, но и весь мир.
В старину бытовала пословица: жизнь прожить – не поле перейти. Я часто теперь на склоне лет думаю над тем, сколько ума и зрелого опыта заключено в словах народной мудрости. Или такое, например, изречение: судьба играет человеком. Да, святые слова,-именно играет. Играла и мною. Ну, скажем, как в футбол. К сожалению, в этой игре на мою долю в годы юности моей слишком часто выпадало роль кожаного мяча. Господи, какие жестокие удары получал я в этой игре. Отлетишь в один конец футбольного поля – поля жизни, глядишь, а там поджидает тебя другой игрок, и как стукнет тебя по боку, отлетишь в другой конец. И опять подскочит к тебе какой-нибудь нападающий или защитник да как поддаст своей могучей ногой – опять летишь. И так всю игру, как говорит Николай Озеров в своих передачах: «удар, еще удар, го-о-о-л!» Гляди в оба, а то и вовсе очутишься «вне игры». Такую игру вела со мной судьба моя всю мою юность.
* * *
Итак, в сентябре1915 года я еду в Александровск продолжать образование.
Собрали родителю всю свою наличность и дали мне с собою на дорогу сто пятьдесят рублей, больше не оказалось. Мало, конечно, шла война, мы расставались всерьез и надолго. Когда еще мы в условиях войны увидимся. Родители тоже намеревались покинуть город, и кто знает куда их закинет судьба. А я еду в далекий совершенно чужой город, и нужны деньги, чтобы заплатить за правоучение, за квартиру, за питание и на самое – хотя бы необходимое. Но что было делать, когда денег нет – на нет, и суда нет. И я уехал. Маршрут мы на семейном совете наметили такой: из Ровно я еду в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), куда еще до меня переехала из пограничного городка Радзивилова сестра отца, тетя Элька. Оттуда, из Екатеринослава, уже недалеко и до Александровска. Тетю эту я видел всего два-три раза за свою жизнь. Да и она меня плохо знала, думаю; встретила бы меня на улице, не признала бы вовсе.
Всю дорогу до Екатеринослава меня мучила совесть: забрал у родителей столько денег, оставил их, шесть человек, без копейки, а им ведь тоже предстоит дорога. Всю ночь не спал, все думал об этом, сон не брал меня. Как только я очутился в Екатеринославе, я пошел на почту и перевел обратно родителям сто рублей. С меня как будто спал тяжелый груз, на душе стало легче, и я свободно вдохнул. Быть может, я совершил глупый поступок? Согласен, возможно, это так. Тем более, что я впоследствии расплатился за него. Но мною в данном случае руководили чувства, а не разум. А, как известно, эти два понятия часто расходятся в своих действиях и направляются по разным взаимно противоположным путям. Я не смог поступить иначе: так я был воспитан. И не только я, а все мы, братья и сестры мои, каждый из нас, поступил бы так, а не иначе. Эти чувства взаимной любви, братской дружбы и преданности друг другу мы впитали вместе с молоком матери, и они не покидали и не покидают нас до сих пор, до глубокой старости. У каждого из нас ничего не было своего, у нас все было наше, все общее, и горе, и радость, все пополам. Помню, Шура, когда она вошла в нашу семью и стала равноправным членом ее, часто говорила мне: «Исюнька, какая прекрасная, какая дружная, друг другу преданная, у нас семья. На знамени, под которым вы все шагаете, начертаны святые слова: все за одно, один за всех. Сердца ваши широко открыты друг другу, переполнены взаимной любовью, братской дружбой и верностью. Все, что вы делаете, что говорите, что предпринимаете, – на всем лежит печать честности и искренности. Я так хорошо чувствую себя среди вас, с вами всегда и вокруг так тепло, так светло. Я никогда такого не видела, впервые встречаю».
Покончив в Екатеринославе с незамысловатой финансовой операцией по переводу домой ста рублей, я по имевшемуся у меня адресу отправился к тете Эльке. Там я прожил один день, переночевал и к вечеру второго дня уехал дальше. В Александровск я прибыл рано утром и вышел на перрон. В руках у меня был мой чемоданчик, в кармане около сорока рублей – весь мой капитал. Анализируя теперь ситуацию, в которой я тогда находился, раздумывая над тем, что могло и что должно было неминуемо ожидать меня в ближайшие же дни – меня, неопытного, мало искушенного в жизни юнца, очутившегося в чужом городе, без крова, без денег, без единого знакомого, – даже теперь, спустя шестьдесят лет, мне делается страшно. Как я мог решиться на такое, как мог совершать такие бездумные, такие, лишенной всякой логики, поступки? Ответ может быть только один: я в то далекое время умел поступать, но вовсе не умел обдумывать свои поступки.
Я расспросил на вокзале о месте нахождения Коммерческого училища. Оказалось,-чтобы попасть туда надо пройти весь город, в противоположный конец его, километров пять. Я отправился туда пешком, конечно, – ни трамвая, ни троллейбусов, ни автобусов тогда не было, а на извозчика тратиться я не имел права.
В одном из своих писем ко мне Сюзик, вспоминая город Александровск , писал: «Не знаю почему Александровск остался в памяти у меня каким-то особенно теплым, солнечным городком, полным какой-то своеобразной прелести». Александровск для меня остается одним из самых светлых уголков на земном шаре». В этих, казалось бы, скупых словах дана правильная характеристика этого действительно чудесного города на Днепре, расположенного у ворот благодатного Крыма.
Представьте себе сравнительно небольшой город, утопающий в зелени, полный уюта, тепла и света. Таким в то время был Александровск. Идешь по его чистым улицам, обсаженными акациями, кленами, каштанами, смотришь на его дома и кажется тебе, что все вокруг так мило улыбается, манит и приветствует: добро пожаловать. Заходишь в скверы, в парки, присядешь на расставленные в них скамейки, смотришь на посыпанные гравием дорожки, на играющих детей, на наблюдающих за ними бабушек или нянек и веет на тебя от всего этого каким-то устоявшимся покоем, умиротворением. Спускаешься к Днепру и любуешься этой чудесной рекой, так мастерски воспетой Гоголем. Вспомните: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит он сквозь леса и горы полные воды свои». Вокруг бескрайняя водная гладь, а по ней снуют лодочки, ялики, парусники какие-то умытые, сияющие на солнце чистотой, то снежно-белые, как лебеди, то травяно-зеленые, как изумруд, то нежно-голубые, как весеннее небо. Вот плавно движется вниз по течению приземистый буксир, а за ним, как утята за уткой, медленно тянутся баржи с грузом. Раскатисто льется над рекой густой бас буксира, отдаваясь глухим эхом в обступающих Днепр буйно-зеленых лесах-плавнях. В небе реют белые крикливые чайки. Они то припадают к воде, то вновь, как белые молнии, устремляются ввысь. Ликующие крики их, как торжественный гимн во славу жизни на прекрасной планете нашей. Ритмично и плавно покатываются на золотой берег тихие волны, нежно целуя каждую песчинку. Вдали, окруженный дымчатой пеленой, просматривается остров Хортица – земля, овеянная славой знаменитой в свое время ратными подвигами Запорожской сечи. Хорошо! Как хорошо!
* * *
Александровск был хорошо развит индустриально. В нем насчитывалось десятка полтора заводов и фабрик для того времени довольно-таки крупных. Больше всего представлено было машиностроение. Находясь сравнительно недалеко от Донбасса город регулярно, снабжался металлом, углем, химикатами, а это создавало благоприятные условия для развития промышленности. Из Александровска шел по Днепру в Херсон, Николаев, Одессу в большом количестве хлеб на экспорт. В городе, прилегавшем непосредственно к берегу Днепра, была большая пристань, к которой приписан был значительный по своей грузоподъемности речной флот: буксиры, баржи, шаланды, пассажирские пароходы, землечерпалки и другая техника. Семь-восемь месяцев в году, в период навигации на пристани, ни затихая, под грохот лебедок и подъемных кранов, под звучные команды – «майна», «вира», кипели погрузочно-разгрузочная работа, бегали по сходням грузчики и другие портовые рабочие, гремели по булыжной мостовой груженые телеги и подводы, шныряли повсюду суетливые отправители, юркие агенты, маклеры. То тут, то там можно было видеть выделившихся своими белоснежными кителями капитанов пароходов, их помощников, штурманов и других представителей персонала пристани и речного флота.
Город Александровск лежал среди огромных степных массивов благодатной родючей земли, где процветало земледелие, огородничество, садоводство, бахчеводство. Далеко вокруг города раскинулись тучные нивы, дававшие обильные урожаи хлеба, овощей, бахчевых культур, фруктов. Мягкий климат, щедрое солнышко, плодородная земля делали свое дело. Мне приходилось во время летних каникул выезжать за тридцать-сорок верст от города в деревню на кондиции. Там я был не сильно загружен работой, – два, три урока в день. Времени свободного сколько угодно, хоть отбавляй. Уроки обычно я назначал с утра, когда ощущается еще ночная прохлада и свежесть воздуха. С одиннадцати часов свободен, как вольная птица. Своих занятий в училище нет. О питании думать не приходится – я жил на всем готовом в специально предоставленной мне комнате, которую ежедневно убирала хозяйская прислуга. Я любил ходить по деревне, по селам и хуторам, наблюдать за жизнью их обитателей, бродить по полям, по огородам и бахчам, общаться с природой, любоваться всем, что создано ее волшебными руками. Я видел много крепких, зажиточных, порой кулацких хозяйств, владевших изрядным количеством собственной пахотной земли. Эти хозяйства насчитывали по десять-пятнадцать лошадей, по столько же коров, много овец, свиней, много сельскохозяйственной техники: сеялки, веялки, лобогрейки, молотилки, сенокосилки, конные грабли. Во множестве бродило по усадьбе всякой птицы: куры, утки, индюки, гуси, даже цесарки. К каждой усадьбе примыкали большие сады, в которых зрели яблоки, груши, сливы, вишни, черешни, абрикосы, персики. Деревья гнулись под тяжестью плодов. В хозяйственном дворе стояло по несколько телег, арб, двуколок. Были многие хозяйства, имевшие и собственные тачаны для поездок по воскресеньям днем в город на базар. Одним словом, богато жили владельцы таких хозяйств, не в пример убогим деревням и селам нашего захудалого, скудного Полесья. Я просто поражался обилию, которое здесь имел возможность наблюдать в кулацких хозяйствах, и даже у так называемых середняков. Спешу оговориться: нет, не подумайте, были в деревнях и селах и бедняки,-безземельные, безлошадные, бескоровные крестьяне. Мне просто не приходилось встречаться с ними, ведь уроки были у меня у зажиточных крестьян, даже у кулаков, дети которых учились в Александровске в средних учебных заведениях. Бедняков я наблюдал только в кулацких хозяйствах, где они, бедняки эти, выступали в роли батраков – где по пять, где по десять человек мужиков и баб. Здесь они трудились от зари до зари, и их эксплуатировали по всем правилам капиталистического кодекса. Нет, не подумайте, законы капитализма и всепоглощающий культ бизнеса действовали в новом для меня крае с такой же неумолимой силой, как и повсюду. В деревне – на одном полюсе крупные землевладельцы, помещики, кулаки, мироеды, а на другом бедное, безземельное крестьянство, мужики, как их тогда называли. В городе – на одном полюсе богачи, заводчики, фабриканты, судовладельцы, крупные торговцы и бизнесмены, а на другом рабочий класс, пролетариат, нещадно эксплуатируемые трудящиеся. Наоборот, здесь в этом богатом крае классовые противоречия, классовый антагонизм, вырисовывались и выступали наружу еще резче, чем у нас в нашем Юго-западном крае. Но если говорить о первоначальных впечатлениях, которые произвел на меня город Александровск, на меня, неискушенного в запутанных лабиринтах жизни, юнца со слабым умишком и ограниченным кругозором, то у меня было такое ощущение будто я попал в какую-то счастливую Аркадию, в какой-то богатый, сказочный мир. Но, как понимает читатель этих строк, умудренный житейским опытом и умеющий видеть то, на что он смотрит, все это не помешало мне хлебнуть в этом «сказочном» мире достаточно горя, невзгод и лишений, являвшихся постоянным мрачным спутником всех бедняков во всем мире.
* * *
Итак, утром первого дня моего приезда в Александровск я отправился в Коммерческое училище , где мне предстояло добиться зачисления учеником седьмого класса. Оно находилось в районе так называемого Екатерининского вокзала, который был началом отдельной Екатерининской железной дороги, соединявшей город Александровск с Донбассом. По этой дороге шел оживленный грузооборот сырья, материалов и топлива, предназначавшихся для промышленных предприятий города. Недалеко от вокзала стояло прекрасное здание училища, утопавшее в зелени разбитого вокруг него парка. Большая площадка перед зданием вся усажена была декоративным кустарником и цветниками. Главная аллея и боковые дорожки сдержались в образцовой чистоте, усыпаны были речным песком и гравием. Само училище, его вестибюль, большие светлые классы, коридоры, раздевалки, столовая, актовый зал, гимнастический зал, библиотека,-все было в нем наполнено какой-то своеобразной торжественностью, сияло чистотой, говорило о полном достатке, который царил вокруг. В училище было много прекрасно оборудованных кабинетов – физики, химии, товароведения, зоологии и ботаники, минералогии. На крыше здания была большая площадка, оснащенная специальным астрономическим оборудованием для изучения курса космографии и наблюдения за ночным звездным небом. Было в училище и два своих оркестра – струнный и духовой. На них под руководством дирижеров обучались и играли на школьных вечерах и балах ученики. Одним словом, все вокруг говорило о широком размахе, с которым строилось училище, о щедрой руке, финансировавшей его содержание, о постоянной заботе, которой оно было окружено. Такого богатства я, конечно, в городе Кременце не видел – слишком это был убогий городишко. Здесь же, в Александровске, обосновалось, как уже упоминалось, много заводчиков и фабрикантов, судовладельцев, экспортов хлеба, крупных торговцев и других богачей – толстосумов. Было вокруг города много помещичьих имений и зажиточных землевладельцев. Дети этих богатых людей обучались в Коммерческом училище, и их родители были крайне заинтересованы в благополучии и процветании этого учебного заведения. Их пожертвования служили дополнительным и весьма солидным источникам укрепления материальной базы училища. Еще хочу подчеркнуть одно весьма важное обстоятельство: надо, конечно, отдать должное количеству преподавателей и стоявшему во главе его директору, А.М. Пантелеймонову, ставшему впоследствии с приходом Советской власти членом партии. Это был прекрасный, сплоченный, до конца преданный делу, педагогический коллектив, отдававший все свое умение, все свои силы и знания делу народного образования. Это были для своего времени передовые, прогрессивные люди, люди, как их тогда называли, либеральных взглядов. Все это привело к тому, что это образцовое учебное заведение славилось постановкой учебного процесса, высокой организацией учебного дела, солидной материальной базой. Оно не было похоже на находившиеся в ведении министерства просвещения царского правительства казенные гимназии и реальные училища, где царила душная атмосфера реакции и консерватизма, где подавлялась всякая прогрессивная инициатива педагогического персонала, где все тщательно охранялось от «крамолы», и передовые идеи немедленно и беспощадно пресекались в корне и изгонялись. Вспомните чеховского «человека в футляре». У нас, в нашем училище, такого не было. Для той поры оно было прогрессивным. В нем царила своего рода свободная атмосфера, веяли по тому времени свежие, вольные ветры. Оно было, как «alma mater», как истинный храм науки: входишь в него, рука невольно тянется к головному убору, чтобы сняться и обнажить голову.
Да, хорошее, чудесное было училище. Добрая память осталась у меня о нем. Я многим, очень многим ему обязан, — это оно дало мне путевку в жизнь и многому научило.
* * *
Явившись в училище, я прежде всего обратился в канцелярию. Там меня внимательно выслушали, сказали, что наше Кременецкое училище слилось с ихним, что из Кременца прибыло всего пять учеников, которые зачислены и приступили к занятиям. Они быстро нашли мои документы, личное мое дело, и отвели к инспектору училища для оформления. Я был удивлен, что этим инспектором оказался бывший директор Кременецкого училища, Дукельский. Стало как-то теплее на душе: нашел хоть одного знакомого мне человека в этом чужом для меня городе. Он мне рассказал, что здесь в Александровске он занял должность инспектора училища так как из Кременца прибыло всего тять учеников, в связи с чем признано было нецелесообразным организовать в городе еще одно отдельное училище такого же типа. «Мы вас, добавил он, зачислили в седьмой класс. Получите в канцелярии ученический билет, возьмите адреса квартир, которые лица, желающие принять к себе учеников на жительство, оставили у нам, идите устраивайтесь и приступайте к занятиям. Вы изрядно опоздали, уже октябрь на носу, занятия идут полным ходом. Возьмитесь за работу, догоняйте отставание, чтобы и здесь в Александровске удержать за собой славу хорошего ученика». Я так и сделал. Получив в канцелярии ученический билет, несколько квартирных адресов, захватив с собою чемоданчик, я пошел устраиваться. Я снял небольшую комнату в квартире мелкого торговца бакалейными товарами. Хозяева мои были люди небогатые, жили скромно, и видно по этой причине приняли меня к себе. Мы договорились об оплате по семь рублей пятьдесят копеек в месяц за проживание и кипяток утром и вечером. Я заплатил сразу за два месяца вперед: деньги таяли, и я считал первостепенным делом обеспечение себя жильем. Посчитав после этой совершенной мною сделки свои капиталы, я убедился в том, что осталось у меня всего около двадцати рублей, сумма мало обнадеживающаяся, не внушающая ничего кроме тревоги за будущее. На следующий день я отправился в училище и приступил к занятиям. Я зашел предварительно к инспектору, который отвел меня в седьмой класс и представил нашему классному руководителю, преподавателю французского языка, мосье Жако. Он оказался весьма душевным человеком, добрым, отзывчивым – в этом я убедился уже потом.
Первые дни я внимательно присматривался ко всему, что меня окружало: к преподавателям, ученикам, знакомился с установленными в училище порядками, правилами поведения учащихся, расписанием уроков. Все было для меня новым, необычным, интересным и, повторяю, все поражало своим благоустройством, каким-то, я бы сказал, широким размахом, полным достатком и устойчивым благополучием. В Кременце мне такого наблюдать не приходилось, и я не все глядел с удивлением. Как мне нравилось училище! Как я был рад и счастлив, что попал в такое чудесное учебное заведение и как полюбил его!
Помню, в первый же день мосье Жако подошел ко мне на большой перемене и спросил, есть ли у меня учебники. «Нет, конечно»,-ответил я. Он взял меня под руку, повел в библиотеку, попросил меня подождать, а сам зашел за перегородку к заведующему. Минут через пять он вышел ко мне и сказал: «Подождите здесь. Всех учебников нет, а те, что есть, вам сейчас вынесут и дадут». Я подождал, и мне вынесли стопку книг. Повезло мне: по самым трудным предметам – по алгебре, геометрии, физике, космографии, истории – учебники были. Я расписался в получении и ушел к себе в класс. Так я стал учеником, так началась моя учеба. Все, кажется, хорошо: у меня есть кров, есть свой угол, есть где заниматься, я попал в прекрасное учебное заведение. Нет, правда, источника дохода, нет средств к существованию, и неизвестно, что я буду есть и на какие деньги жить. Но есть надежда, что в конце концов все устроится, и этот жизненно важный вопрос, вопрос номер один, тоже как-то разрешится, и у меня появятся уроки,-единственное мое спасение. Ну, а пока? Пока ведь нужно жить, а чтобы жить нужно, как известно, кушать, а чтобы кушать, и это тоже всем известно, нужны деньги, а их-то и нет у меня.
История развития человечества свидетельствует о том, что все древние великие философы были бедняками. Вспомните Аристотеля, Демосфена, Демокрита, Диогена. В бедности, в нужде у людей появляются раздумья и глубокие мысли. Философствовал в те тяжелые для меня времена и я, грешный человек. Природа, думал я, – эта великая созидательница жизни на Земле, так прекрасно, так разумно и мудро все сотворила и устроила, а вот в одном только промахнулась, в одном допустила роковую ошибку. Она создала человека так, что для того, чтобы жить, он обязательно должен есть, а еда с неба не падает и по улицам не валяется. За еду нужно платить деньги, а где их взять, они ведь тоже по улицам не валяются. Вам не кажется, что, если бы человеку не нужно было бы есть, на нашей планете давно была бы цветущая жизнь и полный коммунизм. Вот, по-моему, благодарная тема для писателя-фантаста: найти в космосе среди миллионов звезд одну, где разумные, как люди, существа, населяющие ее, не нуждаются в еде, а черпают питание своего организма из воздуха, из солнечных лучей, из лунного сияния. Найти и описать жизнь на этой счастливой звезде. Какой прекрасный, какой чудесный мир можно построить на ней! К сожалению, я не могу написать об этом, не умею. Могу только порекомендовать название такой звезды, скажем: «Мечта», или «Благодатная», или «Радостная», или «Светлая». Одним словом, что-то в этом роде. Потребность в пище, без которой жить нельзя, приносит людям много горя и отравляет существование. В этом я имел возможность убедиться особенно в молодости моей. Эта мерзкая привычка людей-землян настолько укоренилась в их сознании, что они перенесли ее и в потусторонний мир, даже в рай. Как рассказывали нам наши вероучители, даже в раю, который находится совсем близко от божьего престола и где поселяются после смерти души праведников, даже там едят и подаются к столу самые изысканные блюда, сказочно вкусная рыба – левиафан, превосходная говядина откормленного скота, прекрасные фрукты и другая калорийная пища. Праведники восседают за богато сервированными столами, уставленными отборными винами и закусками, едят, пьют и внимают песнопению хора ангелов, херувимов и серафимов, славящих господа бога нашего и поющих ему осанну. Картина, конечно, весьма соблазнительная: ведь подавляющая часть праведников, как об этом рассказывается в святом писании, состоит из бедняков и нищих, влачивших при жизни на земле жалкое существование и изрядно изголодавшихся. Что ж, за них можно только радоваться: пусть наедятся хотя бы на том свете, в раю.
* * *
Шли дни, один за другим. Шли занятия, урок за уроком. Шли расходы на питание, рубль за рублем. Единственное, что не двигалось и застыло на месте, — это доходы, которых не было. Я понимал, что надвигается катастрофа и соблюдал строжайший режим экономии.
Вначале я ввел для себя такой рацион еды: утром дома стакан чаю и бублик. В училище завтрак,-одна котлета с пюре за двенадцать копеек. Обед в скромной столовой за тридцать копеек. На ужин – стакан чаю и опять бублик. Увы, даже такое скромное питание требовало расхода в 45-50 копеек, и я понял, что все это мне не по карману: надо ограничить расходы, а это значит – надо сократить количество поглощаемой пищи. Я перестал обедать и «выиграл» на этом тридцать копеек в день. Вместо обеда я, чтобы обмануть желудок, стал после занятий в училище покупать себе два стакана семечек за две копейки, которые продавались на каждом углу и были очень вкусными. Это давало возможность несколько отодвинуть во времени ожидавший меня крах. Но тут протестовал аппетит, на отсутствие которого я в молодости никогда не жаловался. Желудок требовал свое, и я постоянно ощущал чувство голода. Хозяева, у которых я квартировал, видели, конечно, все это, иногда давали мне тарелку борща или супа, но взять меня на свое иждивение были не в состоянии – они сами жили и питались весьма скромно. Однажды хозяин сказал мне: «Почему вам не обратиться в еврейское общество призрения бедных. При нем действует специальный комитет помощи беженцам, и они им эту помощь оказывают». Я отправился туда, и меня включили в список нуждающихся. Разговаривал со мною председатель комитета, местный богач, владелец большого мануфактурного магазина в городе. Фамилия его была – Тачаевский. Это был человек невысокого роста, полненький, кругленький, ровненький, с маленькими ручками, выхоленным лицом, пунцовыми губками. Он говорил медленно, очень тихо, каким-то нежным, ласковым голосом. Я потом уже узнал, что этот богач считался в городе большим благотворителем, и его фамилия всегда возглавляла списки пожертвований в помощь нуждающимся.
Он внимательно выслушал меня, поинтересовался кто мои родители, где живут, на какие средства я существую, как учусь. Никаких посетителей в комитете не было, он не спешил и проговорил со мною более получаса. В заключение он сказал мне: «Ну что же, молодой человек, мы вам, конечно, должны помочь и сделаем это. К сожалению, много мы не можем, не все состоятельные люди в нашем городе откликаются на наши просьбы о субсидировании Комитета, а бедных, в особенности беженцев, поверьте мне, у нас хватает». Затем он обратился к секретарю, сидевшему в сторонке за отдельным столиком, и сказал ему: «Выдайте молодому человеку десять рублей» единовременно и на месяц талонов на обед в еврейскую столовую для бедных.
Я уходил из Комитета счастливый. Не шел, а как на крыльях летел. И первым делом направился в столовую: ведь я уже больше двух недель не обедал. В столовой было полным-полно народу, стоял не стихающий гомон, слышались шутки, раздавался смех. Прав писатель Шолом-Алейхем – как это ни странно, бедные и нищие, это очень веселый народ, «неунывающие». За этот месяц, что я там питался, я перезнакомился со всеми нищими города: мужчинами и женщинами, однорукими и одноногими, хромыми, глухими, одноглазыми, заиками и просто обездоленными, униженными и оскорбленными судьбой. У меня среди этой публики завелось обширное знакомство, и они, встречая меня по улице, тепло и довольно громогласно приветствовали. Помню, уже впоследствии, когда мне случилось гулять с Шурой по Соборной улице, она, Шура, наблюдая это, спрашивала меня: «Откуда у вас, Исаак, такие связи в этих высоких сферах общества? По-моему, все нищие нашего города знают вас». Они действительно меня хорошо знали,-я один среди них был хорошо грамотным и по их просьбе неоднократно писал им заявления в разные благотворительные организации об оказании им помощи. Кроме того, я хорошо говорил по-еврейски, на их родном языке, что в определенной мере сближало нас. Все это вместе взятое и создало мне среди них некоторую популярность. Где вы все теперь, бедняки мои, униженные и оскорбленные, делившие со мною даровое застолье в Еврейской столовой для бедных?!
Помню первый мой обед в этой столовой. Такого вкусного обеда, такого блестящего шедевра кулинарного искусства, я, поверьте мне, за всю свою жизнь не едал, даже за последние тридцать – сорок лет, когда мы жили в полном достатке, можно сказать, в изобилии. И дело тут вовсе не в кулинарных талантах поваров, не в изысканности подававших блюд, не в отличном качестве и высокой калорийности продуктов и не в богатой сервировке обеденного стола. Все объясняется в данном случае весьма просто: я за два последних месяца вообще изрядно изголодался, а дней двадцать и вовсе не обедал.
Какой обед нам подавали, я помню до сих пор, как будто это было вчера, а не шестьдесят лет тому назад. На первое – тарелку наваристого супа с пленкой жира наверху. На второе – прекрасное жаркое из бутеров (теперь это называется субпродуктами): печеное сердце, легкие, почки, селезенка, сычуг – все это с очень вкусной подливой. Хлеб – серый, без ограничения: ешь сколько хочешь. Могу сказать, что, когда я после длительного недоедания первый раз стал глотать этот чудесный суп с перловой крупой, мне казалось, что в организм ко мне вливается какой-то жизненный эликсир, какая-то живительная сила.
После посещения Комитета я почувствовал себя несколько увереннее. Действительно, думал я, свет, оказывается не без добрых людей. Но все же перспектива оставалась безрадостной. Где взять деньги платить за комнату? На какие деньги покупать тетрадки, карандаши и другие учебные принадлежности? К тем десяти рублям, что мне дали в Комитете, я добавил еще пять своих и заплатил пятнадцать рублей за два месяца за квартиру, обеспечив себя жильем до февраля следующего года.
А время шло. Кончилась первая четверть. Нас, учеников, аттестовали, выставили оценки, выдали табели успеваемости и к великой моей радости я оказался в числе лучших по успеваемости учеников. Мне это помимо морального удовлетворения давало радужную надежду получить урок и обеспечить себе сносное материальное благополучие.
* * *
Часто, читая произведения тех или иных авторов приходится наблюдать, что отдельные главы этих повествований начинаются фразой: «В один прекрасный день…». Думаю, что меня не обвинят в плагиате, если и я использую эти слова и употребляют их здесь. Так вот, в один прекрасный день мой квартирохозяин, относившийся ко мне с явным сочувствием, подсел ко мне и сказал: «Недалеко от нас, на следующей улице в доме номер такой-то, живут мои близкие родственники, однофамильцы. К ним в связи с войной приехала из Киева семья М-вых, которые до подыскания квартиры временно поселились у них. Семья эта, состоящая из матери, двух сыновей и племянницы, весьма состоятельная. Глава этой семьи, отец, остался в Киеве, где занимает должность управляющего сахарными заводами. Они хорошо обеспечены можно сказать, люди богатые. Я бываю у них и как-то рассказал о вас. Выслушав мой рассказ, мадам М-ва поручила мне передать вам ее просьбу зайти к ней, чтобы познакомиться с ними. Вы ведь из одного края – от Киева недалеко уже до Ровно. Я рекомендую вам выполнить ее просьбу – она очень хорошая женщина, весьма душевная, да и все они, вся их семья, очень культурные и отзывчивые люди. Сыновья учатся в том же училище, что и вы, и знают вас. Обязательно зайдите к ним, вы ведь в нашем городе совершенно одинокий человек, — вот и будут у вас знакомые люди, да еще и какие хорошие».
Должен сказать, что я действительно был в этом чужом для меня городе одиноким и очень болезненно переживал это тяжелое чувство. Мне за свою долгую жизнь приходилось бывать в разных городах, областях и краях и я убедился, что в каждом из них при всей их общности и административном единстве действует свой, свойственный каждому из них, уклад жизни, отношения между людьми, свои обычаи и распорядок быта, свой какой-то особый колорит. Я наблюдал это в нашем Юго-западном крае, в Прибалтике, на Урале, в центральной России, на Кавказе, в Закавказских республиках, даже в некоторых городах, как например в Одессе. Как каждый город в старину имел свой герб, так и каждый край имеет свои особенности, свое лицо. Александровск в моих глазах был каким-то особым городом, не похожим на города нашего Юго-Западного края. Население его жило своей особой жизнью, отличавшейся от той, что мне приходилось видеть у нас. Помимо того, что в этом городе, как я уже писал, не бросалась так в глаза нужда, что все выглядело как-то богаче, обеспеченнее, полнокровное, помимо этого весь уклад, весь строй жизни был иным, новым для меня и порою непонятным, даже странным. А спросить было не у кого, поделиться, посоветоваться, поговорить по душам – не с кем. Кругом чужие люди – добрых знакомых, ни друзей, ни родных у меня не было. Я попал в чужую среду, в которой чувствовал себя как белая ворона. Я был одиноким, и это тяготило меня. Худшей кары, чем одиночества, для человека не придумаешь. Город Киев расположен в Юго-Западном крае и является центром его – вот почему меня, выходца их этого края, потянуло к этим киевским беженцам, и я несмотря на то, что был очень робким, застенчивым юношей, на другой день вечером пошел к ним. Пошел и убедился – да, это была прекрасная семья, культурная, скромная и, главное, добрая, отзывчивая. Украшала эту семью мать, мадам М-ва. Это была женщина лет сорока, всегда скромно одетая, скромно причесанная. Она не производила даже впечатления барыни и не кичилась своим богатством. Большие серые глаза ее смотрели на вас с подкупающей теплотой и отражали доброту ее души. Задушевный мягкий голос ее всегда звучал тихо, ласково – я никогда не слышал от нее громкого слова, которое произнесено было бы повышенным тоном. Запомнилась одна характерная особенность ее речи: она никогда не говорила от своего имени – я это сделаю, я обещаю вам, я помогу, я постараюсь. Она всегда говорила от имени всех: мы это сделаем, мы обещаем вам, мы постараемся, мы поможем. Она никогда не выступала в роли благотворительницы, благодетельницы, в роли дамы патронессы. Она была скромная во всех своих поступках и скромность украшала ее. От этой прекрасной женщины всегда веяло тишиной и покоем, которые постоянно царили в ее доме. Хорошая, достойная была женщина, много добра сделала мне, большую поддержку оказала в это неприветливое для меня время, и оставила в моей памяти самые светлые воспоминания.
В тот первый день, когда я пришел к ним знакомиться, мы проговаривали с нею часа полтора. Она подробно обо всем расспрашивала: о родителях, о составе семьи, о том, где она сейчас проживает и на какие средства живет. С большим тактом, свойственным добрым культурным людям, она поинтересовалась моим материальным положением, образом жизни, успехами в учебе. О том, что я обедаю в дешевой столовой для бедных, она уже, очевидно знала из рассказа моего квартирохозяина, и этот вопрос вовсе не затрагивала. В заключение она сказала мне: «У нас к вам будет большая просьба – приходить к нам обедать. Приходите каждый день после уроков в училище, когда вся наша семья обедает, мы вас будем ждать. Ведь вы здесь совершенно одиноки – должны мы помочь нашему земляку». Это приглашение, таким мягким голосом и сердечной теплотой высказанное, я принял и не стал отказываться. И здесь, у этой милой доброй женщины я обедал пять-шесть месяцев до той поры пока не обзавелся уроками и стал весьма прилично зарабатывать – зимой шестьдесят – семьдесят пять рублей в месяц, а летом, на кондиции, даже по сто рублей.
* * *
Кончилась вторая четверть 1915-1916 учебного года. Я получил свой табель об успеваемости. В нем стояло две-три четверки, остальные – пятерки. Я твердо установил за собою репутацию хорошего ученика и завоевал прочное место среди первых по списку успеваемости.
По установленному тогда в средних учебных заведениях порядка после каждой четверти учебного года проходил педагогический совет, на котором заслушивалась успеваемость учащихся. Председателем Совета был директор училища, А.М. Пантелеймонов. Душевные качества этого доброго человека я описал уже в других моих воспоминаниях. Повторю здесь коротко: таких благородных, таких отзывчивых, таких чистосердечных людей я мало встречал в своей жизни. Это был настоящий педагог, настоящий воспитатель, истинный старший друг учеников. Когда я сам впоследствии стал уже педагогом, стал воспитателем группы, к которой меня прикрепили, я в сложных ситуациях, с которым приходилось мне встречаться в педагогической и воспитательной деятельности моей, часто задавал себе один и тот же вопрос, а как поступил бы на моем месте Андрей Михайлович? И я всегда и во всем старался подражать ему.
В самом начале третьей четверти он вызвал меня к себе и самым обстоятельным образом, до малейших подробностей, расспросил о моей жизни в Александровске. Он между прочим сказал мне: «Б а рац (ударение на первое «а»,-так он произносил мою фамилию ), я знаю, как вы учитесь и вызвал к себе, чтобы узнать, как вы живете, на какие средства, как вы питаетесь, – вы ведь здесь совершенно одиноки. Успеваемостью вашей в занятиях мы довольны, старания ваши заслуживают одобрения. Живете вы один без родителей, без родных и близких и некому вас похвалить, так это сделаю я от имени педсовета и по его поручению». Этим отеческим обращением ко мне он как бы подобрал ключ к истосковавшемуся по доброму, ласковому слову сердцу моему, и оно открылось ему. Я рассказал ему все, ничего не утаивая, как на духу, как на исповеди. Когда я закончил свой рассказ, он некоторое время помолчал, а потом, многозначительно растягивая это короткое слово, произнес: да-а-а… Затем после некоторого раздумья сказал мне: «Вот что, Б а рац, за первое полугодие Попечительский Совет освободил все беженцев от платы за правоучение. За второе полугодие надо платить. Напишите заявление на имя Совета об освобождении от платы, и я постараюсь, чтобы вас освободили от нее. Помимо этого, я зачислю вас до конца учебного года на бесплатные усиленные завтраки, которые вы будете получать ежедневно в ученической столовой, начиная с завтрашнего дня. Кроме того, я попрошу вашего классного руководителя, мосье Жако, чтобы он подыскал вам урок с учеником младших классов, и это даст вам кой-какой заработок. Идите, Б а рац, и занимайтесь, учитесь хорошо – это главное, что он вас требуется, а мы, педагоги ваши, вас поддержим».
Полагаю, нет необходимости описывать здесь, как после этой беседы с директором поднялась у меня настроение, какой счастливый, какой окрыленный я вышел из кабинета и как светло и тепло было у меня на душе.
Через несколько дней на большой перемене подошел ко мне мосье Жако и сказал: «Вот вам, Барац, адрес ученика пятого класса Ф-га, с которым вы будете заниматься по алгебре и французскому языку. Он отстает по этим предметам, и надо его подучить, чтобы у него не было переэкзаменовок. Его отец приходил к нам за советом, и мы назвали ему вас в качестве репетитора. Надеюсь, вы оправдаете нашу рекомендацию». Я поблагодарил и пошел по данному мне адресу. Условился с отцом ученика об оплате в пятнадцать рублей в месяц за преподавание тех двух предметов, по которым его сын отставал, и приступил к занятиям.
Ученика моего звали Соликом. Ему было около пятнадцати лет. Был он очень приятным юношей, добрым, жизнерадостным, с милой улыбочкой, никогда не сходившей с его лица. У них была большая семья: несколько сыновей, дочь, некоторые из них совершенно взрослые, женатые, дочь замужняя, у которых были уже свои дети. Старики проживали большей частью в деревне К., где вели вместе с сыновьями и зятьями дела по добыче камня, по выжигу извести на каменоломнях и карьерах, которые они арендовали у богатого помощника. Летом в эту деревню выезжала на отдых вся многочисленная семья Р., все дети и внуки. Старики были выходцами из Юго-западного края, жили где-то в Винницкой губернии и за несколько лет до войны перебрались в Александровск, где неплохо успевали в коммерции. Люди они были простые, хорошие, и мы с ними впоследствии сдружились и сохраняли хорошие отношения до той поры пока я не покинул Александровск и переехал с Шурой в Харьков.
Всем хорош был мой ученик, добрый, услужливый, внимательный к людям, за эти его качества я просто любил его. Один только крупный недостаток был у него, недостаток, который лично мне доставлял много хлопот: он не любил заниматься и мало внимания уделял учебе. Я прилагал все свои старания, добросовестно с ним занимался и добился успеха,-он стал приносить по алгебре и французскому языку тройки, а к концу года даже четверки. Радовались его родители, благодарили меня, радовался и я. Но… мой ученик стал отставать по геометрии и истории, и ему угрожали две переэкзаменовки по этим предметам после летних каникул. Я его сильно журил, взывал к его сознанию, к совести. На все мои увлечения у него был один ответ: «Ну зачем вы так беспокоитесь? Мы выезжаем на все лето в деревню, поедете и вы с нами туда на кондицию. Будете жить с нами, родители вас всем обеспечат, отведут отдельную комнату в нашем большом просторном доме, будут вам и деньги платить. Что еще надо? А в деревне у нас так хорошо, воздух прекрасный, питание хорошее,-ягоды, фрукты, овощи, всего-всего, чего хочешь и сколько хочешь. Да еще и девушки милые, — вот увидите, какая там благодать. Право, не надо переживать – по вашим предметам у меня все в порядке, можно сказать даже хорошо, а за остальное вы ведь не отвечаете. Вы свое доброе дело сделали, и родители очень довольны и согласны взять вас с собою к нам на все лето. Для вас же это очень хорошо, даже выгодно!». Как видите, в организме этого юноши текла кровь отца-коммерсанта.
Так оно и было, как он пророчествовал: я был приглашен к ним на кондицию и все лето 1916 года провел у них в деревне, где действительно было хорошо и привольно.
В марте я получил еще два урока, из них один у генерала. Теперь уроки давал мне уже не мосье Жако, а сам директор училища. Какова была процедура получения их, как это положительно сказывалось на моем бюджете, об этом я писал уже в предыдущих моих воспоминаниях. Здесь я повторю только, что плату за мои труды устанавливал директор, к которому местные богачи-родители обращались с просьбой рекомендовать для их сыновей репетитора. Я получал двадцать пять рублей за урок, а было их у меня три – семьдесят пять в месяц – деньги по тому времени немалые.
Я перебрался на другую квартиру в центре города, близко к училищу, где у одного провизора, тоже беженца из нашего края, снял отдельную комнату в доме, принадлежащем отчиму Шуры. Здесь я познакомился с Шурой. Чем кончилось это знакомство, вы знаете. Я продолжал учиться, бегал с урока на урок, трудился во всю, свои уроки готовил по ночам, но добился главного: нужда в деньгах, недоедание, бедность – все это в Александровске сопровождало меня только первые пять-шесть месяцев и потом оставило. Уроки и высокая плата, которую я получал за них, полностью обеспечивали мне нормальную жизнь. Настолько обеспечивали, что я вызвал к себе Митю и взял его на свое иждивение. Он поступил в Гальбштадское коммерческое училище, и я высылал ему туда ежемесячно двадцать пять рублей, на которые он жил, а потом уже с помощью Андрея Михайловича определил в наше училище в Александровске.
* * *
Милый, славный город Александровск! Чем, кроме как добрым благородным словом я могу вспомнить тебя? Много хорошего ты сделал для меня,-ты и люди, населявшие тебя. Ты не отвернулся от меня в тот безрадостный и тяжелый период юности моей. Ты не бросил меня на произвол судьбы в ту лихую для меня годину. Ты дал мне возможность продолжать образование, закончить прекрасное учебное заведение, получить аттестат зрелости,-путевку в жизнь.
Милый город, здесь у тебя познал я просторы обступивших тебя вольных степей, любовался водной гладью могучего Днепра, вздыхал целебный воздух, настоянный на аромате полей и лесов твоих. Здесь, на золотых песчаных берегах чудесной твоей реки, я часами просиживал прожаренный южным солнцем, обласканный прохладным влажным ветром, омытый светлой днепровской водой.
Сюда, в этот добрый, приветливый город я вызвал вначале брата своего, Митю, а потом и всю нашу семью. И ты, славный город мой, широко распахнул перед нами гостеприимные двери свои и принял их так же сердечно, так же тепло и радушно, как и меня. Здесь исполнились мечты и желания каждого члена семьи нашей, вновь воссоединившейся на благодатной почве твоей. И, наконец, и это, быть может, самое главное, самое ценное – здесь, в этом городе, я встретил Шуру мою, которая на протяжении более полувека была мне верным, до конца преданным другом.
Всем пожилым людям свойственно желание, даже необходимость разобраться в прожитой жизни, в том, что было и что сделано. И, вспоминая свою жизнь, листая пожелтевшие от времени страницы книги юности моей, я воспринимаю ушедшие события с новыми чувствами, новыми глазами.
Я исполнен душевной благодарности этому доброму, очаровательному городу, который восстает предо мною, как живой, в образе светлого, теплого улыбающегося мне доброго волшебника и чародея, похожего на сказочного деда-мороза, несущего людям радость и счастье. И я с благодарностью низко склоняюсь перед ним голову и говорю ему: спасибо тебе, словный город мой, за все хорошее, что ты сделал для меня! Спасибо за добро, сотворенное тобой, за щедроты твои. И пусть имя твое славится в веках.
Апрель 1976 г.