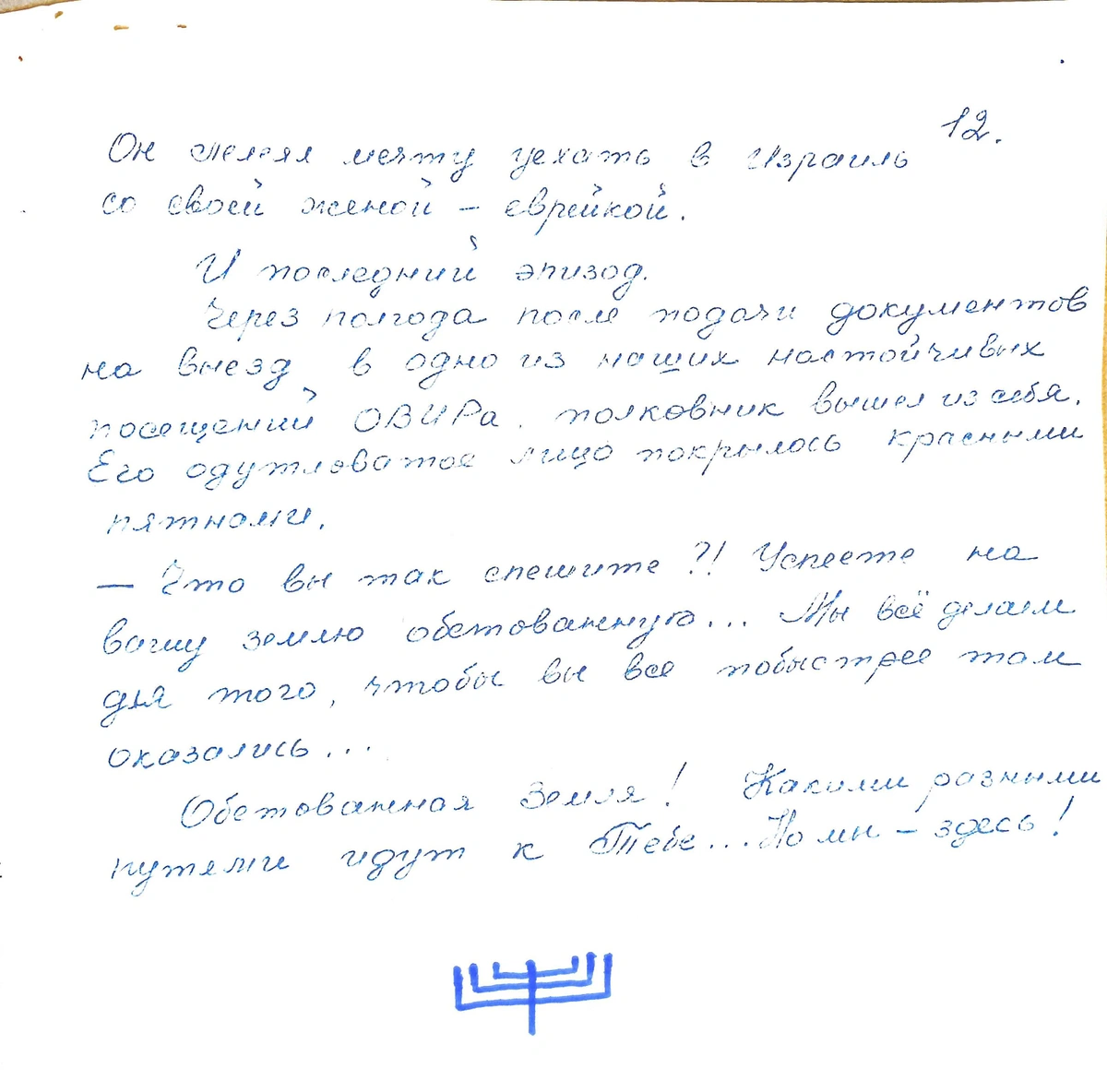Мой путь в Израиль
Я родилась в день праздника Торы. Из рассказов матери представляю себе теплый осенний день. Больничный двор в украинском местечке. Подвода Берла-Моти. На ней привезли маму в родовых схватках. В семье ждали третьего ребенка. Ждали девочку, чтобы дать ей имя покойной бабушки Рахили – матери отца. Говорили, что она была красивой и кроткой. «Нися, пусть будет тихо», – говорила она вспыльчивому дедушке.
Я любила петь и танцевать. Мои родители не упускали случая упомянуть, что я родилась в день Симхес-торы.
Отец был религиозным и, по моим понятиям, ярко выраженным евреем. Сидя на его коленях, я узнавала историю еврейского народа. Старший брат успел закончить несколько классов еврейской школы. Он заучивал наизусть стихи на идиш.
Ди ост шмэйн аз тей из тей,
Эхыт мир а гройзе зах.
Бы сы кимт ци дим ын мойр
Дарф мир арбэтн асах.
Мама была правнучкой по материнской линии бердичевского раввина Ройзензона. В шестнадцатилетнем возрасте она пережила петлюровский погром. Большую семью деда повели на расстрел к окраине украинского села. Дедушка шел, воздев руки к небу, и молился. В это время послышалось, точно эхо: «Остановитесь!» Несколько украинских крестьян упали на колени перед петлюровским атаманом с мольбой пощадить реб Ицхака.
Дедушка работал у хозяина приемщиком на мельнице и кормил большую семью. Имя реб Ицхака Вакса было синонимом доброты и благородства. Это спасло жизнь семье. Пришлось заночевать в полицейском участке. Петлюровец не удержался и снял с руки матери золотое колечко.
В разгар Второй мировой войны мы очутились под Сталинградом. К поселку подступали немцы. Как добраться до ближайшей железнодорожной станции и удрать в глубь России? Я помню, как мы удирали мимо чисто выбеленных домишек, цветущих подсолнухов; помню, как фронтовая подруга шофера стояла в ожидании, пока мама вынимала из ушей сережки с бирюзой.
Закончилась война. Отец поспешил увезти семью из Сибири, не дожидаясь лета. Мы вернулись в полуразрушенный, полуголодный тревожный город. Отец, носивший с наивной гордостью медали на выгоревшей гимнастерке, долго не мог найти работу.
Осень 1946 года. Еврейские праздники. Огромная толпа на улице, так как синагога не вмещает всех. Отец взял меня с собой. Впервые вижу я праздничное шествие со свитками Торы.
Несколько дней спустя что-то стряслось в нашем доме, но от меня, ребенка, это тщательно скрывалось. Мама ходит с расстроенным лицом из угла в угол. Отца до глубокой ночи не было дома. Я впервые слышу, что зловещее слово «НКВД» имеет отношение к папе.
Большой чин, беседуя с отцом, положил на стол заряженный пистолет... Кто-то донес, что евреи у синагоги, в том числе и отец, с сочувствием говорили о Палестине. Папа прошел войну от Финляндии до Маньчжурии, но от этого потрясения он так и не пришел в себя. Вскоре он заболел тяжелой продолжительной болезнью... При таких обстоятельствах слово «Палестина» вошло в мое сознание.
Мне семнадцать лет. Мы, то есть сероглазый юноша с вьющимися волосами и я, гуляем по аллеям приднестровского парка.
– Я когда-нибудь поеду в Израиль, и ты поедешь со мной...
Я четко помню место, где я услышала эти слова. Это было на центральной аллее неподалеку от танцплощадки. Но я никак не могу вспомнить, почему возник этот разговор.
– А если я не поеду? – это были мои слова.
– Я тебя уговорю.
Невероятно, но спустя двадцать лет мы в Израиле... А в тот день мне было хорошо стоять на берегу Днестра в лучах влюбленных глаз юноши, который мне все больше нравился, смотреть беззаботно, как играют солнечные искорки в речной волне.
Прошли годы. Подросли наши дети. Для них, родившихся в шестидесятых годах двадцатого столетия, еврейский вопрос оставался таким же острым, как во все века.
– Мама, сегодня учительница сказала, что в нашем классе учатся русские, украинцы, молдаване, евреи...Мама, почему при слове "евреи" дети начали смеяться? Разве стыдно быть евреем?
Сын был старше, и с ним можно было говорить как с равным. Он знал правду обо всем, что нас окружало. Он избегал собрания, праздничные демонстрации, не вступил в комсомол. Это было опасно, но иначе было нельзя. За два месяца до выезда из России сын изучил иврит в объеме ульпана. Он уходил с уроков и встречался с еврейскими ребятами у Кишиневской синагоги.
С раннего детства Алик дружил с мальчиком из хорошей еврейской семьи. Дети серьезно занимались шахматами и часами после школы «висели» на телефоне. Сейчас они продолжают дружить в Израиле. Лева уехал первым. Сын тосковал и нервничал. Ему казалось, что мы действуем недостаточно энергично.
Мы часто бывали на семейных праздниках наших друзей. Много было пирушек, когда мы пили за Израиль, за то, чтобы всем нам жить в этой стране. Однажды, помню, хозяйка дома, маленькая женщина, рассказала нам притчу о рабе. Вот что мы услышали: «Жил-был раб. Он честно служил своему господину и жил хорошо. За верную службу решил господин наградить раба и подарить ему свободу. Но раб не принял подарка. Он привык к своему положению и просил господина оставить его при себе. Тогда господин выжег клеймо на ухе раба, что он, дескать, раб не только по обстоятельствам, но и по самой своей сути».
На одном из собраний в городе обсуждали заявление женщины, пожелавшей выехать в Израиль.
– Что делать? Муж хочет ехать...
– Не живите с мужем. Живите с коллективом.
Это не анекдот. Советская действительность оставляет мало места для личной жизни. Субботники, воскресники, партийные и профсоюзные собрания, политзанятия и праздничные шествия утратили былую популярность, но поглощали много свободного времени, которым можно было распорядиться иначе. Люди понимают скуку и нелепость этих мероприятий, но начальству важно поставить галочку: указание идет из райкома. Собрание редко происходило без стереотипной реплики:
– Давайте побыстрее! Сами себя задерживаем!
Однажды после юбилейного вечера мы возвращались вдвоем с пожилой сотрудницей.
– Какой стыд! Мы все должны отсюда бежать...
Она так возмущалась, как будто бы впервые столкнулась лицом к лицу с антисемитизмом. (К этому гнусному явлению, слава Богу, невозможно было привыкнуть). Ничего из ряда вон выходящего не случилось.
Старые кадровые рабочие и служащие-евреи на этом юбилейном вечере так и не дождались никаких знаков внимания (нужно было видеть их лица); все регалии поделили между собой лица нееврейской национальности.
В нашем отдела кто-то сказал:
– Фрида Юльевна ужасно расстроена.
– Почему?
Оказывается, ее много лет держат на мизерной зарплате, а вот сегодня приняли эту девчонку...
– Фриде Юльевне нечего возмущаться. Она еврейка и должна знать свое положение.
– Как? В городе нужны счетные работники! На свои руки она всегда найдет муки.
Всегда самоуверенный, Михаил Яковлевич взглянул на меня с удивлением. Он был из тех, кто всегда готов прижать своих соплеменников и выслужиться перед антисемитами. И все его познания в бухгалтерии теряли в моих глазах всякую привлекательность. Сын М.Я. женился на русской девушке. Это было неприятностью для родителей. Вскоре они смирились: все-таки она была дочерью генерала.
«Евреи должны знать свое место!» – мы понимали, откуда это идет. Правда, как быть с такими, как Левитан, Эренбург, Ботвинник? Это были лучшие сыны русского народа.
Я знала семью профессора Ф. Мильне. Интеллигентные люди. Глядя на его хрупкую жену, невозможно было представить, что эта женщина в годы сталинского режима строила город за Полярным кругом – не по своей воле. Когда ее арестовали, профессор не жаловался (так посоветовали друзья) и продолжал заниматься наукой.
Спустя десять лет мать семейства вернулась из "командировки", и выросший сын встретил ее словами:
– Мама, я думал у тебя совсем другой нос.
За чашкой чая разговор пошел об общем знакомом. Его не пустили в круиз по Средиземному морю.
– Что особенного, – сказал профессор. – Я получил персональное приглашение на симпозиум в Румынию. Я никому не показал это письмо. Зачем ставить руководство в неловкое положение?
Много лет я переписывалась с москвичкой Бэлой Мироновной. Встретились мы с ней впервые в гостинице Тирасполя. Помню, я так уставала от однообразного бега по кругу "дом - работа - магазин - дом", что деловая командировка была для меня раем. Можно было спокойно полежать, почитать книгу. Но читать долго не пришлось. Открылась дверь, и в комнату вошла... моя мама, только моложе на двадцать лет. Мы познакомились, разговорились и уснули в третьем часу ночи. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы подружились навсегда. Бэла Мироновна казалась мне необыкновенным интересным человеком. Кандидат наук, она сделала важное научное открытие. Работу собирались представить на Государственную премию. Но все лопнуло. Директор института украл работу для кандидатской диссертации своей приятельницы. Все близкие Бэлы Мироновны погибли в блокаду в Ленинграде. Когда ей показали на дверь под предлогом, что тема перешла в другое ведомство, у нее хватило сил и энергии для «хождений по мукам» по всем инстанциям.
В конце концов ей предложили трудоустройство в цеху кондитерской фабрики. «Я не могу жить без любимой работы, – писала она мне. Я борюсь, но силы мои на исходе. Я не нахожу выхода из порочного круга...»
Бэла Мироновна находила утешение в музыке – в посещении вечеров в Политехническом музее. Она присутствовала на встрече с прекрасным человеком и артистом, который публично высказал свое отношение к антисемитизму:
– Я должен сообщить собравшимся, что известный артист – Зиновий Гердт – мой самый лучший друг.
Ведущий звонил в колокольчик, призывал соблюдать тишину.
В один из моих приездов в Москву мы попали на вечер еврейской поэзии. В зале поэзии на улице Горького читала Софья Сайтан. Была ранняя весна. Евреи-москвичи, истосковавшиеся по родному слову, забросали актрису тюльпанами. Никогда не забуду такой волнующий момент. Сайтан прочитала стихотворение Рахили Баумволь «Бокал и роза» и вдруг обратилась к залу на идиш:
– Автор этого стихотворения находится в зале.
Ее апплодисменты были обращены к поэтессе. Рахиль Баумволь сидела совсем близко от нас. Она поднялась. Зал взорвался овацией.
Учреждение, в котором я работала последнее время, переехало на самую грязную окраину города. Там никогда не просыхали лужи, не прекращался грохот машин. На пустыре рядом с конечной остановкой троллейбуса был приемный пункт «Утильсырье» – ржавый вагончик. На его фасаде был нарисован карикатурный бодрячок, и он сообщал миру, что «кость – отличное сырье». Именно эта надпись наводила на меня страшную тоску. Я приходила в отдел, садилась за свой стол и в сотый раз спрашивала себя: «Зачем я здесь?» Мне казалось, что настоящая жизнь происходит где угодно, только не в этих четырех стенах. Каждую весну я завидовала грачам, которые с криками радости вили свои высокие гнезда. В один из дней мне позвонила Роза, мой близкий друг. Много-много лет мы дружили семьями. Это был человек, который мог утишить твою боль, перед которым нестрашно было вывернуть себя наизнанку.
– Я ухожу с работы... Совсем...
Наверно, я поменялась в лице, потому что кто-то спросил:
– Что-нибудь с мамой?
Мама много болела в те дни.
– Я не могу больше здесь оставаться. Они облили меня грязью.
Роза была не просто архитектором. Она была художницей с Божьей искоркой. В городе было много зданий, построенных по ее проектам. Она работала много и находила в этом удовольствие. Невозможно было представить Розу без ее любимого дела.
В тот день ее вызвали на заседание партбюро.
– Мы тут рассмотрели ваше заявление. Мы не можем выдать вам положительную характеристику.
Речь шла о предполагаемой поездке за границу. Председательствовал сам директор.
– Вы не принимаете участия в общественной жизни и не посещаете политзанятия.
Это было нелепо и не стоило себя утруждать для ответа.
– И еще, у вас стремление к наживе.
Роза ушла с бюро, поблагодарив всех за преподнесенный урок.
Она была очень «виновата» перед директором в том, что неосторожно «сделала себе имя», что подъезжала каждый день к зданию института на синеньком «Фиате».
Еврейский вопрос был вечной темой разговоров дома, на работе, в кругу друзей. Мы засыпали и просыпались с транзистором, жадно читали письма из Израиля. В душе давно было принято решение, но оно казалось несбыточным.
За несколько месяцев до подачи заявления я поехала в Подмосковье. Мне хотелось отдохнуть и подготовить нервы к предстоящим испытаниям. В эту свою поездку я старалась внимательно приглядеться к московской жизни, послушать, о чем говорят люди.
В этот приезд меня поразили прилавки магазинов, более убогие, чем всегда. Люди бегали, искали деликатесы к новогоднему столу, а им предлагали мороженую рыбу. Москвичи знают, что есть и икра, и балык, и птица – в изобилии... в закрытых магазинах для избранной элиты.
Пожилая русская женщина в очереди на сдачу вещей в комиссионный магазин (что недалеко от кремлевской набережной):
– Вот, я вещи хочу сдать. Муж не знает. Сын-то у меня физик. А что толку? Он получил приглашение на Рождественские праздники в Венгрию. Пусть поедет... Что он здесь видит хорошего? Я вот, ничего, что старая, все равно хочется еще разок взглянуть на загнивающий капитализм.
Люди молча переглядывались. Никто не поддержал разговор.
Я жила в подмосковном доме отдыха в сосновом бору в 25 километрах от Москвы. Это была старинная русская усадьба. В XVIII веке дворец принадлежал знатному вельможе, близкому к царской семье. Во времена Хрущева МИД пытался отнять поместье для приемов иностранцев. Но этого не случилось. Я вспоминаю Суханово как самый светлый островок в моей прежней жизни. Сосновые леса и березовые рощи. Непринужденная домашняя обстановка. Здесь никто не играл на гармошке и не пил водку. Здесь отдыхала интеллигенция столицы: художники, ученые, режиссеры...
Как-то в один из зимних вечеров собрались в гостиной. Разговор зашел...о модах. Что будут носить в ближайшее время? Завязался невинный спор, который вскоре обернулся «крамолой». На пути естественных стремлений людей стоит «система»... Лучшие воспоминания этих людей, занимавших видное место в московской жизни, были связаны с поездками за границу.
Я разговорила русского инженера из Минска. «Почему вы не уезжаете? – сказал он под конец. – Евреям здесь нигде не дадут хода. Это такая банда!» Он лелеял мечту уехать в Израиль со своей женой-еврейкой.
И последний эпизод.
Через полгода после подачи документов на выезд во время одного из наших настойчивых посещений ОВИРа полковник вышел из себя. Его одутловатое лицо покрылось красными пятнами.
– Что вы так спешите?! Успеете на вашу Землю Обетованную... Мы все делаем для того, чтобы вы побыстрее там оказались.
Обетованная Земля! Какими разными путями идут к тебе... Но мы – здесь!