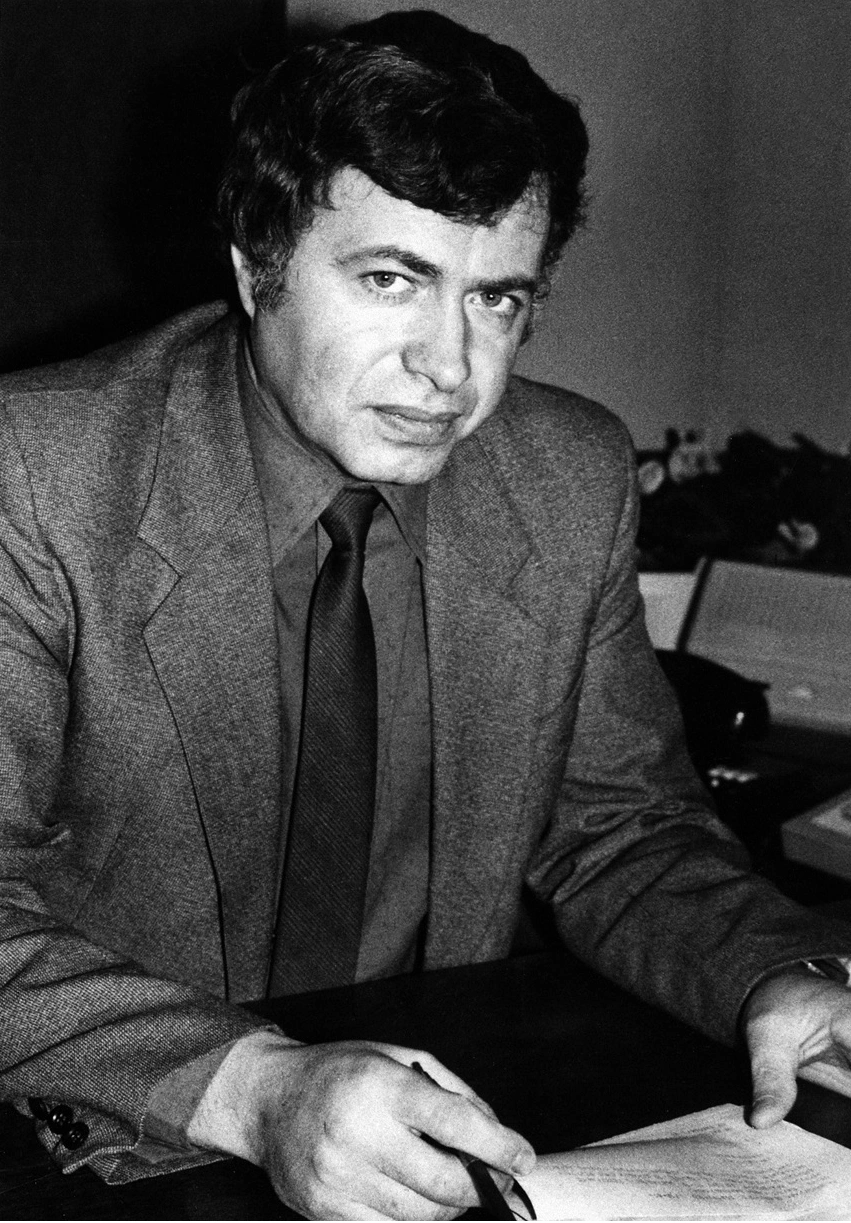Сквозь буреломы судьбы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Я, МОИ ПРЕДКИ И ПОТОМКИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
О том, как я родился
Знакомство моих родителей произошло около Сыктывкара во время работ по сплаву леса (посёлок Слободский рейд), где мать уже работала бригадиром и числилась в передовиках. Когда я был зачат, отцу на тот момент было 18, матери — 21 год. Эту историю я знаю исключительно по их рассказам. Они были молоды, влюблены друг в друга и очень хотели жить на родине, в Литве, о которой у каждого из них сохранились тёплые воспоминания, не дававшие покоя.
В начале ноября 1946 года мои родители решили сбежать из спецпоселения: мама уже была беременна мной, на седьмом месяце. Они заранее договорились о том, что будут делать, если начнётся проверка пассажиров и поиск беглых. Но, к несчастью, отца всё равно схватили и вернули на прежнее место ссылки. На мать же как на беременную не обратили внимания, и ей удалось доехать до Литвы. Она добралась до деревни Моцкайчяй в Таурагском уезде, где жили её близкие родственники и куда так же сбежали из России её мать и сёстры. В этой самой деревне 22 января 1947 года я и родился — в избе, от которой сейчас уже ничего не осталось. В том доме жила тогда дедушкина мама, моя прабабушка Елена Савицкене, 1871 года рождения, ей в то время было 75 лет. Мама рассказывала, что моя жизнь у прабабушки (она звала её «бабуля») была очень благополучной, сытной, само собой, счастливой. Прабабушка очень меня любила и постоянно ходила в доме и по двору, взяв меня под мышку, а я счастливый и голопопый весело брыкался ногами. Судя по маминым рассказам, в Моцкайчяй я хорошо рос, был здоровым, с пухлыми румяными щёчками — жизнь в деревне шла мне на пользу. Я часто спрашивал, почему мама не поехала после моего рождения обратно к отцу в Сыктывкар вместе со мною. Она неизменно отвечала, что не хотела увозить меня на север из деревни, где были и коровье молоко, и помощь близких, и более благоприятный климат.
Правда, будет справедливо заметить, что от возвращения в Коми её отговаривала её мать, моя бабушка Амелия (Эмилия). Мой отец же говорил прямо — именно в этом он всегда видел причину того, что их судьбы в итоге разошлись.
После рождения меня крестили по литовским обычаям и во время крещения дали второе имя — Йонас. В паспорте записано: Витаутас Йонас Миркес с отчеством Мозевич по имени отца.
Мать узнала о том, что до сих пор находится в розыске как беглая ссыльная, и стала скрываться, но всё-таки её поймали: посадили за побег в тюрьму Лукишкес в Вильнюсе, впоследствии перевели в тюрьму в России и в итоге снова сослали в Сыктывкар. Но моего отца в Сыктывкаре уже не было, после смерти своей мамы он уехал из Республики Коми в Красноярский край.
После недолгого пребывания в деревне Моцкайчяй я проживал какое-то время в городе Симнасе, у будущей жены маминого брата Владаса, Гене, поскольку мои мама и бабушка уже находились в тюрьме Лукишкес, обвиняемые в побеге. Из ранних рассказов родственников я помню одну невероятную историю. Моя бабушка Амелия придумала, как переправить меня к брату матери Витаутасу в Клайпеду. Сейчас это может показаться диким, но тогда, видимо, выбирать не особенно приходилось. Бабушка Амелия попросила уголовницу, с которой сидела в одной камере и которая вот-вот должна была выйти на свободу, чтобы та забрала меня из Симнаса и перевезла в Клайпеду. Уголовница пообещала всё выполнить, а бабушка заверила, что её за это отблагодарят. Та женщина вышла из тюрьмы и действительно приехала в Симнас (к матери жены дяди Владаса Гене), чтобы меня забрать оттуда и перевезти в Клайпеду. Мать Гене красиво меня одела и снабдила едой в большом количестве, для нас обоих. Я был тогда ещё в детской коляске.
И тут случилась неожиданная развязка, о которой мне много раз рассказывала моя тётя Марите, младшая сестра матери. В то же самое время, когда согласно плану я должен был оказаться на пересадочной станции Радвилишкис (из Симнаса в Клайпеду), она случайно тоже оказалась там. Марите шла по перрону и вдруг услышала, что кто-то зовёт её детским голосом: «Марите!» Она обернулась на голос и узнала в сидящем в детской коляске малыше меня. А также заметила убегающую от этой коляски цыганку. Я сидел, одетый в лохмотья. Никакой хорошей одежды на мне и в помине не было. После этого Марите не раз повторяла, что спасла меня от цыган и табора. Об этом в нашей семье до сих пор помнят и гадают, что бы могло со мной случиться, если бы Марите не заметила меня в Радвилишкисе. Впрочем, в конце концов, благодаря счастливой случайности всё сложилось хорошо. Меня отвезли в Клайпеду к дяде Витаутасу.
Даже в застенках бабушка Амелия чувствовала огромную ответственность за всю семью Савицкасов, а особенно за меня, маленького и беззащитного, и пыталась сделать всё возможное и невозможное, чтобы обезопасить меня и улучшить условия моей жизни. Решать эти вопросы из тюрьмы было фантастически трудно. И конечно, рискованно. Я мог совсем пропасть из семьи Савицкасов-Миркесов и очутиться в цыганском таборе. Но благодаря судьбе, своевременно пославшей ко мне Марите, я благополучно вернулся в семью Савицкасов, и в результате сегодня я тот, кто есть.
После той истории Марите вместе с её сестрой Региной поймали за побег и вернули на место ссылки. А я с той поры примерно два с половиной года жил в семье моего дяди Витаутаса Савицкиса в городе Клайпеда.
Переезд в Сыктывкар и жизнь в посёлке Южном
Бабушка Амелия была очень энергичной и умной. Выйдя из тюрьмы и оказавшись в ссылке в Сыктывкаре, в 1950–1951 годах она сумела собрать всех трёх дочек в этом же городе. В том числе там оказалась и моя мама, досрочно освободившаяся после отбывания срока заключения. Она, как и другие родственники, уже нашла работу и жильё. Но выезжать из города никто из ссыльных не имел права. Оставался вопрос: как перевезти к ней меня, её единственного сына? Задача была сложной. На тот момент мне шёл пятый год. Сам я поехать никуда не мог, нужны были сопровождающие. Но все мои ближайшие родственники были разбросаны по Союзу. Отец — в Красноярском крае. Мать, её сёстры и бабушка Амелия — в ссылке в Республике Коми. Дедушка Костас — в заключении в Красноярском крае. Дядя Владас — в ссылке в Коми. Только дядя Витаутас работал в то время в Клайпеде, но был «привязан» к работе в интернате.
Поездка на поезде из Клайпеды в Сыктывкар занимает порядка двух дней. Прямых маршрутов нет даже сейчас, а в то время их тем более не было. Тогда Савицкасы начали искать решение сообща. Они переписывались, вспоминали разных знакомых, собирали информацию и разрабатывали план. В итоге всё удалось организовать. По просьбе дяди Витаутаса из Литвы в Россию меня согласились перевезти малознакомые люди. Это был серьёзный риск, но выбирать уже практически не приходилось: измученные событиями в стране, люди стремились использовать хотя бы те возможности, которые ещё оставались. И взаимопомощь между незнакомцами была одной из таких возможностей: сегодня помогу я — завтра помогут мне.
Дедушка Костас мечтал жить вместе со своей женой и детьми и многое для этого делал. В результате всей семье разрешили воссоединиться в указанном специальными органами месте, то есть в Воркуте, намного севернее и с худшим климатом, чем это было в Сыктывкаре и Красноярском крае. Таким образом дедушка и бабушка оказались в Воркуте, а их дочери — моя мама Людвика вместе со мною малолетним, её сестра Регина и сестра Марите — в посёлке Южном, который находился в 10–15 км от Воркуты. Поначалу мы с мамой и её сёстрами устроились в посёлке, а бабушка с дедушкой нашли работу и жильё в городе. Воркута находится за полярным кругом, в 180 километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Зима там длится около восьми месяцев. Почти всегда дует ветер, бывают сильные метели, снежные заносы. Овощи и зелень выращиваются только на подоконниках и в теплицах. Южный — старый горняцкий посёлок, который сейчас уже заброшен, — был относительно удачно расположен, и в то время к нему примыкал совхоз «Тепличный», где в специально обогреваемых теплицах выращивались самые основные и устойчивые к перепадам температур культуры: огурцы, укроп, кое-какие корнеплоды. Помню, что в этом Южном посёлке централизованно выращивали редиску, используя возможности полярного лета. Мы, дети, конечно, иногда её воровали, для нас она была очень-очень вкусной. Тётя Марите работала в этом тепличном хозяйстве, и иногда нам удавалось попробовать даже такой деликатес, как свежие огурчики.
Сам посёлок, как я сейчас помню, был небольшой, всего около пятнадцати жилых бараков. Жители работали в находившихся рядом угольных шахтах или в тепличном хозяйстве, но большинство всё же ездили на работу в Воркуту. Мы с матерью и её сёстрами жили в небольшой комнате барака. Барак был одноэтажный, невысокий, довольно длинный. Каждое его помещение отапливалось отдельно, углём. Зимой после больших снегопадов утром невозможно было выйти наружу, поэтому приходилось, открыв внутрь входную дверь, с усилиями пробиваться через выросший до самой крыши сугроб. Сегодня эти условия показались бы невыносимыми. Но интересно, что в моей памяти остались не только трудности суровой жизни, но и хорошие впечатления.
Выходя из дома, я оказывался сразу в самой тундре: так был расположен посёлок. Все дети в основном там и играли, не отходя далеко от своих бараков. Родители особенно не волновались. Насколько я помню, комары нам жить не мешали. Наверное, это было связано с тем, что Южный посёлок находился очень близко к полярному кругу или комаров отпугивал дым с угольных шахт. А когда была метель и везде образовывались сугробы высотой в несколько метров, мы, дети, выкапывали в них большие и длинные норы, которые нас защищали от ветра и бушующей пурги. Чтобы было уютнее и теплее, мы приносили из дома свечки и зажигали их. Мне и сейчас становится на сердце тепло и уютно, когда я вспоминаю, как в детстве сидел внутри этих туннелей.
Самой доступной, но очень редкой сладостью для детей были отколотые кусочки сахара. Иногда я заходил к другу, и его мать угощала меня свежеиспечёнными булочками. Они казались очень вкусными и оставили приятные воспоминания, хотя булочки были простые и безо всякой начинки.
Бывало, к соседям приезжал из Москвы их сын. Однажды он привёз с собой удочку для ловли рыбы. Мы с ним сходили к речке и поймали на хлебный мякиш несколько небольших рыбок. Дома его родители почистили и поджарили наш улов — как же было вкусно заедать хлебом ту горячую рыбу!
Во время вьюг и метелей люди порой не могли выйти из дома и попасть на работу вовремя или вернуться с предприятия домой. А дети зимой часто не ходили в школу. Случалось, кто-то из жителей замерзал из-за морозов и снегопада (когда ничего не видно, легко заблудиться). Поэтому каждый год все ждали, когда закончится зима и наступит весна.
Когда на улице начиналась пурга, на расстоянии человеческой руки ничего не было видно. Как в Литве говорят, «хозяин свою собаку на улицу не выгонит». В такую погоду люди старались отсиживаться дома. Помню, как однажды, когда я уже жил в Воркуте у дедушки с бабушкой, во время пурги вечером в наш дом постучалась одна женщина и попросила впустить её погреться. Она была учительницей, шла из школы домой и не могла добраться из-за метели. Бабушка с дедушкой её приютили, обогрели, накормили и уложили спать. Утром ветер стих, и она смогла выйти. В благодарность эта учительница перед уходом подарила мне толстую тетрадь, которую я потом использовал для учёбы.
Приход весны искупал всю суровость зимы: после долгой зимней спячки потепление очень поднимало настроение жителям севера. Весной тундра мгновенно расцветала, начинали щебетать и вить гнёзда прилетевшие с южных широт птички. Несколько раз я видел гнёзда с птенчиками — прямо в кустах и в траве, так как в тундре не было больших деревьев. Иногда встречались берёзки высотой до одного метра (выше в тундре ничего и не росло). Весна и лето длились всего около двух месяцев. Помню пышный аромат каких-то цветов, похожих на шиповник, что-то вроде кустовых роз нашей полосы.
В середине лета мне нравилось наблюдать в тундре за упряжкой оленей. Олени даже летом тянули сани: их полозья легко скользили по травяному покрову. Повозка на колёсах не смогла бы проехать по холмистой тундре. Олени были кормильцами во всех смыслах: они служили не только транспортным средством для жителей тундры, но и ценной пищей, а их шкуры использовались для изготовления очень тёплой и красивой одежды и обуви. Мне запомнился вкус копчёных оленьих косточек, которые продавались в магазине.
Большой радостью для детей было собирать к концу лета мелкие оранжевые ягодки — морошку. Иногда мать посылала меня (или ходила со мной вместе), чтобы нарвать в тундре дикого щавеля, из которого варила суп. Бывало, мы даже находили небольшие кустики голубики. Всё, что мы добывали в тундре, нам в то время казалось невероятно вкусным! Наверное, поэтому я до сих пор и помню эти счастливые моменты. Осень тоже приходила очень быстро, мы не успевали замечать, как проскакивало короткое лето.
Северную природу мне и сейчас приятно вспоминать. Если бы я был намного моложе, то с большим удовольствием съездил бы на несколько недель в тундру — и летом, и зимой, чтобы обновить свои воспоминания о детстве.
Жизнь в Воркуте
В 1954 году, когда бабушка и дедушка уже обустроились в Воркуте, было принято решение перевезти меня к ним: отчасти потому, что мама создала новую семью с Йонасом Каченасом, а также потому, что в городе имелись общеобразовательные школы, где я мог бы учиться. Бабушка с дедушкой жили в маленькой комнатке в длинном одноэтажном бараке, где находилась какая-то контора. Бабушка была буфетчицей, готовила и продавала еду для работников этой конторы. Сотрудники всегда оставались довольны своими обедами. У бабушки уже был опыт такой работы в Литве в Таураге, ещё до высылки семьи в Россию. Помещение буфета было небольшим, но этого вполне хватало. После работы ей приходилось мыть полы во всех конторских кабинетах, расположенных по обе стороны длинного коридора. Все они были небольшие, каждый около 6–8 кв. м. Окна барака тоже были маленькими, от 0,5 до 1 кв. м, чтобы тепло не выходило изнутри на улицу. В помещениях стояла самая простая и необходимая мебель — никаких ковриков или украшений не было. Я не помню, чтобы дедушка и бабушка когда-нибудь жаловались на свою работу и жильё, хотя по сегодняшним меркам всё это выглядит не соответствующим нормальной жизни. Благодаря экономности и разумности моих бабушки и дедушки мы неплохо прожили эти годы и даже сумели накопить немного денег.
Дедушка работал в той же конторе ночным сторожем, ему даже было выделено охотничье ружьё с патронами. Во время дежурства он также подтапливал углём из коридора печки помещений барака, чтобы они не промерзали, и утром конторские служащие начинали свой рабочий день в тёплых кабинетах.
Бабушка была строгой, деловой, с ней обычно не спорили ни её дети, ни муж. Впрочем, когда дело касалось каких-то мудрых выводов и решений, все прислушивались только к дедушке. Он читал книги и всесоюзные газеты, любил слушать радио, пока слух был хорошим.
В Воркуте он часто помогал мне делать уроки, пояснял, что было непонятно. Это был самый вовлечённый в моё образование человек. Именно он привил мне любовь к чтению и пробудил интерес к мировой политике. Но первыми книгами, конечно, были русские сказки: например, до сих пор помню сказку о Коньке-горбунке.
Полярной зимой в Воркуте на улице было темно даже днём, полярная ночь там длилась около девяти месяцев. А когда наступал полярный день, то практически круглые сутки в течение трёх месяцев на улице было светло. Я мог допоздна читать книги, не включая свет в комнате.
Помню, как я приходил вечером к дедушке на дежурство, и ко мне на спину ложился большой кот. Дедушка в то время читал газету «Правда», покуривая трубку с махоркой. Один раз и я попробовал покурить его трубку — дедушка наблюдал и посмеивался. После этого мне стало плохо, и больше в детстве курить мне не хотелось.
Насколько я помню, в нашей семье не отмечались дни рождения и Новый год, мы не дарили подарков. Думаю, это было связано с тем, что праздновать во время ссылки было не к месту. Но такие праздники, как католическое Рождество и Пасха, отмечались обязательно, и бабушка старалась приготовить что-то из национальных вкусных блюд.
Однажды под Новый год мы с бабушкой ходили гулять в центр Воркуты, и там на главной площади я впервые увидел огромную наряженную ёлку. Мне и сегодня кажется, что такой красивой ёлки я больше никогда в своей жизни и не видел. А ещё запомнилось, как мы с классом ходили в Воркутинский драматический театр смотреть балет (сказка по мотивам истории царской России). Я до сих пор помню некоторые впечатлившие меня моменты. Наверное, поэтому и сегодня у меня сохранилась любовь к балету: раньше я посещал театр, а сейчас смотрю по телевизору.
В Воркуте у меня были школьные друзья и приятели, мы играли летом в русскую игру лапту, где мяч отбивали палкой и приходилось много бегать. А зимой катались с больших ледяных горок. Однажды я так накатался на своём портфеле, что весь его верх разорвался в клочья, и вечером я получил от бабушки большой нагоняй.
Воспоминания о сёстрах и братьях моей матери в те годы
Когда я жил у бабушки с дедушкой в Воркуте, обе мамины сестры, Регина и Марите, вышли замуж в Южном посёлке за сосланных из Литвы литовцев: Регина за Пятраса Вайчайтиса и стала Вайчайтене, а Марите за Степонаса Данишаускаса и стала Данишаускене. Муж Регины Пятрас по опыту прошлой жизни в Литве попробовал посадить в Южном на улице картошку, вскопав там небольшой огород над вечной мерзлотой и удобрив землю навозом из местной конюшни. К сожалению, этот эксперимент с выращиванием картошки на Крайнем Севере не удался.
Судьбы матери и её сестёр были в чём-то схожи. Все трое были сосланы в Сыктывкар. Регина и Марите с моей бабушкой Эмилией (Амелией) Савицкене в 1946 году также сбежали из ссылки в Литву, где их поймали. Маминых сестёр как несовершеннолетних в тюрьму не посадили, а вернули в ссылку в Коми. Бабушку же сначала посадили, а затем вернули в спецпоселение. Так бабушка, мама и её сёстры стали жить вместе в Сыктывкаре, куда привезли и меня. А чтобы соединиться с дедушкой Костасом, в то время находившимся в ссылке в Красноярском крае, семье пришлось переехать в Воркуту, согласно требованиям того времени.
Жизненные пути маминых братьев, Витаутаса и Владаса, хоть они и были поначалу сосланы на север России вместе с остальными, оказались разными. Витаутас уже в ссылке добровольно попросился на фронт и ушёл воевать с немцами. Ссылка была автоматически отменена. С войны он вернулся в Литву, в Клайпеду, вступил в коммунистическую партию, окончил партийную школу и работал директором разных учебных заведений. Жена у него тоже была партийным работником. Поэтому в их жизни особых трудностей не возникало. Пользуясь возможностями своей карьеры, он помогал трудоустроиться и получить жильё брату Владасу, трём сёстрам с семьями, своей матери с отцом, а также и мне — с общежитием после окончания института.
Дядя Владас, в отличие от своих сестёр и матери, из ссылки в Литву не бежал. Он сумел устроиться на учёбу — поступить в Сыктывкаре в техникум (а может быть, и в высшее учебное заведение), где получил специальность преподавателя английского языка. После ссылки он вернулся в Литву и преподавал английский язык в школе в городе Жагаре, а впоследствии с помощью своего брата Витаутаса устроился учителем английского в техникум Клайпеды, где Витаутас работал директором. Там же он получил и жильё для своей семьи.
Возвращение в Литву
Помню постоянные разговоры родственников о стремлении вернуться из воркутинской ссылки домой в Литву. Это стало возможным только после смерти Сталина в 1953 году. Ссыльные начали получать разрешения на выезд из ссылки в Литву, правда, при этом не позволялось вернуться в свои родные места: Савицкасы были сосланы из города Таураге, а вернуться в Литве могли только в Кретингу или в Клайпеду, где брат мамы Витаутас нашёл жильё для своих родителей, а потом для сестёр и их мужей. Можно было устроиться и в другие места в Литве, но для этого требовалось иметь место жительства и работу, что вернувшимся из спецпоселений было практически невозможно организовать самостоятельно.
У матери, бабушки и дедушки дома мы разговаривали на литовском языке, но писать и читать по-литовски я не умел. Поэтому, когда в 1954 году было решено вернуться семьёй в Литву, сначала меня отвезли в Клайпеду к дяде Витаутасу, служившему директором школьного интерната, чтобы я мог поступить в 4-й класс школы и выучить литовский. Пока я находился в интернате, в 1954 году из Воркуты вернулись дедушка с бабушкой, поселившись в Кретинге в купленном ими домике с небольшим земельным участком. Было принято решение разделить этот участок на две части и на одной из них построить небольшой дом для матери с отчимом, где я и жил потом вместе с сестрой Бируте. Так как мать с отчимом оставались ещё в Воркуте, то строительство домика организовал дедушка на присылаемые ими деньги. Сестра Бируте родилась в 1958 году в Воркуте, после чего в том же году мама вернулась с нею в Литву, а отчим ещё несколько лет работал на севере, зарабатывая деньги на строительство дома.
По сравнению с предыдущими периодами моей жизни (с рождения до начала учёбы в Кретинге) школьный период стал самым стабильным. До этого меня мотало по жизни, перебрасывая не менее восьми раз в разные точки Литвы и России вслед за моими родственниками. Это было связано и со ссылкой родителей, и с побегом матери в Литву, и с пребыванием моих родителей то в Литве, то в Сыктывкаре, то в Воркуте… В Кретинге я более-менее привык к размеренной спокойной жизни.
Пока шло строительство, я жил у дедушки и бабушки. Со времён ссылки они полностью обеспечивали меня одеждой, обувью, питанием и всем необходимым для школы. Это существенно облегчало жизнь матери и её новой семье. Даже когда мы все уже жили в Кретинге, они продолжали помогать мне. Например, когда я оканчивал среднюю школу, они подарили мне красивый костюм и ботинки на выпускной. О материальной помощи и о моём воспитании я часто вспоминаю с благодарностью. Как бы ни было им трудно в этой жизни, бабушка с дедушкой сумели вырастить пятерых детей, которые наградили их десятью внуками — по двое от каждого. Самым старшим из внуков оказался я.
Когда мы переехали в Литву, разница в климате по сравнению с Воркутой была огромной и впечатляющей. Зимы в Литве мягкие, снег выпадает редко, морозы небольшие, никакой вьюги или пурги, похожей на северную, здесь не было. Поэтому заблудиться, выйдя из дома, было практически невозможно. Зимой было здорово кататься на лыжах или на коньках на школьном пруду. Не требовалось так тепло одеваться, как на севере. Да и зима здесь была короткая, не дольше трёх месяцев, а потом наступали ранняя весна и тёплое лето. Весна с летом длились полгода. Осень — три месяца. Помню, какие вкусные вырастали ягоды в саду у мамы и бабушки, и с каким большим удовольствием я их ел: крыжовник, красную, белую и чёрную смородину, а ещё впервые попробовал клубнику и малину, и спелые вишни прямо с дерева! Я ел прямо с грядки зелёный лук, домашний щавель, укроп, сладкую морковь, срывал сочные стручки гороха и, конечно, огурцы и помидоры. А осенью можно было собирать сливы (свежие, а не замороженные, как в Воркуте), яблоки разных сортов, груши. В Кретинге у бабушки пышно цвели и вкусно пахли кусты белой и пурпурной сирени, роскошные георгины и пионы. Во дворе рос большой красивый клён: я любил забираться на него и читать там книгу. В Литве я впервые увидел могучие дубы, очень красивые настоящие берёзы, отличающиеся от карликовых берёз в тундре, и многие другие деревья — увидел наяву, а не на картинках детских книг. Конечно, сравнение природы Литвы и Крайнего Севера будет в пользу Литвы. Поэтому можно полностью понять людей, депортированных из Прибалтики, когда они рассказывали, что их в первую очередь тянуло вернуться из ссылки в Литву именно из-за красоты своей родины и её природы.
Как ни стараюсь, не получается вспомнить о каких-то игрушках в детстве. Я знаю, что в то время в магазинах продавались различные механические игрушки, плюшевые мишки, куклы для девочек и т. п. Но в то время у моей семьи не было материальных возможностей для таких покупок. Поэтому я, как и другие дети, играл отходами деревянного производства: разными кубиками, дощечками, палочками… Иногда получал и металлические детальки: шайбы, гайки, колёсики, — всё, что падало с токарного станка. Помню, как я аккуратно складывал и хранил эти «игрушки» в деревянных ящичках. Это были «игрушки» для дома. А на улице мы играли в различные военные игры, соорудив из подручных средств луки и копья, или в лапту, прятки и в другие детские игры.
Когда я учился в 10-м классе в Кретинге, меня попросили побыть школьным Дедом Морозом на площади в Кретинге около новогодней ёлки, куда я пришёл с моим другом Гедиминасом. Новогодний костюм мы сделали вместе с мамой. После этого в те же дни меня попросили поучаствовать в роли Деда Мороза на празднике организации, где работал муж Марите, Степонас Данишаускас. На этот праздник я взял с собой сестру Бируте и двоюродную сестру Людике.
В старших классах школы я получил очень ценный подарок от дедушки Давида — фотоаппарат. Именно фотография развила во мне любовь к природе и желание фиксировать интересные моменты жизни нашей семьи. До сих пор я пересматриваю кадры, которые сделал во время поездок по Советскому Союзу: республикам Закавказья, Украине и Молдавии (заработав деньги для путешествия, разгружая вагоны с цементом). Фотоаппаратом я пользовался вплоть до учёбы в институте, пока не приобрёл другой, более современный. И до сих пор я помню ещё один дорогой подарок, полученный от дедушки, — наручные часы, которые прослужили мне очень долго (в школе и в институте).
Я никогда не планировал становиться профессиональным спортсменом, но с самого детства мне нравилось активно двигаться, заниматься спортом. В школе я занимался бегом, баскетболом, боксом, играл в шахматы. В институте продолжил заниматься бегом, увлёкся альпинизмом. После института остались бег и баскетбол, разные другие спортивные игры и добавились активные путешествия и туристические поездки. Спорт всегда помогал мне восстанавливать здоровье во время трудной работы и заряжал меня новой энергией для дальнейшей жизни.
Вспоминаются мои друзья детства Йозас Яугялис и Эдмундас Жвирблис, с которыми я учился в одном классе в школе. А также друг детства Гедиминас Ракис, который был моложе меня на четыре года и жил по соседству с моими бабушкой и дедушкой на одной улице. Со школьным товарищем Эдмундасом нам нравилось играть в шахматы, поднимать штангу, путешествовать по Литве. Часто ходили друг к другу в гости. И даже женились в один день — поэтому не могли присутствовать друг у друга на свадьбе. С моим другом Йозасом Яугялисом я тоже любил заниматься спортом, мы много ездили с ним по Литве на велосипедах и ходили в туристические походы. После того, как мне отказали в поступлении в Ростовское высшее военное училище, мы с Йозасом выбрали для учёбы Таллиннский политехнический институт — специальность «технология спецматериалов электронной техники». Вступительные экзамены сдавали в Каунасском политехническом институте в Литве, живя вместе у его тёти в Каунасе. Оба поступили и успешно окончили. С более молодым другом Гедиминасом мы сдружились из-за его весёлого характера и большой любви к путешествиям.
Он также легко сошёлся и с моими друзьями Эдмундасом и Йозасом. Мы ездили в турпоходы, путешествовали автостопом по Украине, Грузии, Азербайджану. Гедиминас побывал на нашей свадьбе, долго выбирая, к кому всё-таки пойти — ко мне или к Эдмундасу, так как наши свадьбы были в один и тот же день.
Судьбоносный поворот в выборе профессии
Оканчивая учёбу в школе в 1965 году, я задался вопросом, что мне делать дальше. Так как мне нравилась литература по военному делу и я много занимался спортом, а также наслушался рассказов дедушки о его службе и военных действиях в царской армии, мне очень хотелось стать офицером. Я периодически заходил в военкомат, где знакомился с вариантами учёбы в разных военных училищах. Меня очень зацепило предложение обучаться в Ростовском военном училище по специальности «противоракетная оборона». В военкомате я заполнил необходимые документы, прошёл медкомиссию и ждал вызова в Ростов для сдачи экзаменов. Однако ответа из военкомата не было долгое время, и тогда я попытался выяснить причину этого молчания. И получил неожиданный удар по своим мечтам и ожиданиям. Причина состояла в том, что детей ссыльных запрещалось принимать в военные училища. Я растерялся, опустил руки и утратил желание что-либо дальше делать. Мать уговаривала меня поступить в строительный институт. Но меня такая специальность не привлекала. Спустя какое-то время, немного оправившись от этого удара, я с Йозасом Яугялисом зашёл в свою школу. Там на доске объявлений мы увидели приглашение учиться в Таллиннском политехническом институте по специальности «технология спецматериалов электронной техники». Сдавать экзамены нужно было в Каунасском политехническом институте, там набирали группу со всей Литвы. Трудно сейчас пояснить, почему меня и друга потянуло выбрать этот вуз и учиться в Таллинне. Может то, что это современная специальность и учёба в другой республике. Так или иначе, мы с другом успешно сдали экзамены в Каунасе и стали студентами первого курса Таллиннского политехнического института, где учились в группе из 26 человек.
Самое счастливое время в моей жизни — это студенчество, которое пришлось на 1965–1970 годы. Впервые в жизни я оказался в ситуации, когда со мной рядом не было никого из близких людей и нужно было самому принимать все решения в своей жизни. Это было нелегко, но воспитывало во мне самостоятельность и ответственность. Первым делом пришлось научиться выживать на стипендию в 45 рублей в месяц (она у нас была на 10 рублей больше, чем на других специальностях). Мать присылала мне дополнительно 15 рублей в месяц. В принципе, на это вполне можно было прожить и даже иногда сходить с друзьями в пивной бар. Учиться вначале было нелегко, так как преподавание велось на русском языке и надо было выучить всю терминологию. В институте были очень хорошие общежития, мы жили по три человека в комнате. В каждом из трёх зданий общежитий располагалось заведение общепита, но мы ходили в рабочую столовую, где можно было недорого и сытно поесть. Постепенно сэкономив немного денег, на первом курсе я съездил на экскурсию в Ленинград.
В институте все студенты делились на три группы: к первой относились те, которые только зубрили, но ничего в студенческой жизни не видели, ко второй — те, которые мало учились, но много пили и гуляли с женщинами (поэтому после первого курса из 26 поступивших в нашу группу осталось только 12 человек). И третья группа — это самые нормальные студенты, которые учились без зубрёжки и в меру веселились. К третьей группе относился и я. В итоге всегда получал стипендию и успешно окончил институт. Учёба мне нравилась. Только когда я начал работать по специальности, много раз жалел, что не усвоил досконально некоторый учебный материал, и во время работы его приходилось заново изучать с помощью литературы.
На первом курсе мы иногда ходили на танцы. Эстонцы по сравнению с нами очень хорошо танцевали (ча-ча-ча, медленный вальс, румба, танго и т. д.). А мы умели только ногами передвигать на месте. Поэтому мы с другом пошли на танцевальные курсы в железнодорожный клуб, где окончили два курса, научились танцевать и стали смелее. Дважды в год из Литвы нам присылали пособие по 40 рублей, служившее хорошим подспорьем. Некоторые наши парни уже на первом курсе начали подрабатывать грузчиками, музыкантами на танцах и т. д.
Я решил тоже найти себе работу, чтобы свободнее чувствовать себя материально. Тем более, что меня начало интересовать знакомство с девушками, а это требовало дополнительных затрат. Я устроился в троллейбусный парк дежурным электриком, где, начиная с полуночи, должен был измерять утечку тока на троллейбусах. Зарабатывал около 40 рублей — этого уже хватало и на развлечения.
На втором курсе у меня появилось огромное желание увидеть отца и самому съездить к нему. Мы списались с отцом по почте и договорились о нашей встрече. Тем летом поездом через Москву я приехал в Красноярск. Это была моя первая в жизни встреча с отцом. Меня очень тепло приняли, и я был очень счастлив. Отец организовал мне поездку на теплоходе в одноместной каюте по Енисею до Дудинки, а потом поездом до Норильска. Для меня это было впечатляющее путешествие. Конечно, самое главное и волнующее событие в этой поездке — встреча с отцом. Воспоминания о ней навсегда сохранились в моей памяти. Я и сейчас понимаю, как мне не хватало отца в моём детстве. Отчим никогда не мог мне его заменить. Причина нашей разлуки с отцом — те страшные времена сталинских репрессий и депортаций. Судьба и жизнь моих родителей, как и других депортированных, была лишь маленькой игрушкой в руках руководства СССР того времени. По указанию Сталина был создан мощнейший репрессивный аппарат, который практически без суда и следствия принимал решения по высылке на долгие годы ни в чём не повинных людей. Это был самый трагический период в истории нашей семьи.
Моими одногруппниками в институте были в основном литовцы, но также с нами учились и русские, и евреи. В материальном плане все мы были одинаковы. После поездок в Литву каждый привозил с собой что-нибудь из дома (сало, огурцы, капусту, варенье, яйца, немного денег). Это было большой помощью в жизни студента. Привезённые из дома продукты чаще всего съедали друзья. Такие моменты становились праздником. Зато перед поездкой домой приходилось затянуть пояса потуже.
Встреча с Лидой, моей будущей женой
На третьем курсе на дне рождения девушки из нашей группы (Тамары Валенчиц) в женском общежитии я познакомился со своей будущей женой Лидией Скворцовой, учившейся на втором курсе того же института. Она жила вместе с моими сокурсницами. Мы стали с ней встречаться и вместе весело проводили время. Ходили в кино, кафе, иногда в рестораны, на свадьбы студентов или просто гуляли по Мустамяэ (район, где находились корпуса института и общежитий, в лесном красивом массиве) и Нымме (пригород Таллинна, около 3 км от общежития, где раньше жили богатые люди; там мы ходили в кино и в маленькое уютное кафе).
Впоследствии в Нымме в 1970 году родился наш старший сын Римантас-Витаутас Миркес. Так как я через день в ночное время подрабатывал в троллейбусном парке, то и Лида поздно вечером иногда ездила со мной на работу. В кинотеатрах, где были буфеты, я предлагал Лиде купить что-нибудь вкусное, и она всегда просила 100 граммов нарезанной докторской колбасы. Это было её любимое лакомство. Однажды знакомая девушка в кинотеатре угостила нас конфетами, а Лида предложила ей колбасу. Та аж шарахнулась и отказалась. Ей не позволял так себя вести эстонский менталитет. Как-то мы были в ресторане «Кавказ» и ели жилистый шашлык: мои зубы его разжевали, а Лида все кусочки в салфетку спрятала. Это был её первый шашлык в жизни. В другой раз мы посетили с Лидой и её подружкой Сельей популярный пивной ресторан в центре Таллинна, простояв довольно много времени в очереди. В этот ресторан ходили в основном мужчины, поскольку женщины в то время пива не пили. Заказали свиные варёные ножки, пиво и лимонад. Я обглодал эту ножку, держа её руками, а Лида с подругой ничего не могли сделать, мучаясь с ножом и вилкой, — так и оставили всё несъеденным. В том ресторане висели целые облака сигаретного дыма. Лиде стало очень стыдно, это был прямо шок, когда она встретилась глазами со своими сокурсниками Алькой и Женькой. Чтобы она, да в таком месте, «мужском»! Вот такие были времена.
На пятом курсе в марте 1970 года меня с сокурсником Стасисом Сидаравичюсом направили от института на практику для подготовки дипломной работы. Пару месяцев мы провели в Вильнюсе на заводе «Вента» при институте полупроводников. Практику я проходил в лаборатории вакуумного напыления при производстве микросхем. Запомнилось, что в этой лаборатории был очень дружный коллектив, который всячески помогал мне писать дипломную работу, предоставляя весь необходимый материал. Мы с другом жили в общежитии педагогического института и на практику ходили пешком. Один раз меня навещала Лида, и я смог показать ей Вильнюс.
В апреле того же 1970 года состоялось очень важное событие моей жизни: мы с Лидой поженились. Свадьба получилась запоминающейся и весёлой, мы отпраздновали её в общежитии института. Жаль, что организация свадьбы легла на Лидины плечи, так как я в тот период был на практике в Вильнюсе. Большую поддержку в подготовке праздника оказали родители Лиды. Её мать перед приездом в Таллинн всю ночь чистила картошку, тушила капусту, жарила котлеты. Лидин отец заказал автобус для гостей из Убья в Таллинн и привёз большой бидон пива. Моя мама с отчимом, а также друг детства Гедиминас Ракис приехали к нам из Литвы, из Кретинги. Лида договорилась с двумя студентками-старшекурсницами со специальности «общественное питание по приготовлению холодного стола». Как мне кажется, всего хватило на нашей свадьбе. После неё можно было ещё и пожить какое-то время на пустых бутылках, так как бутылки в те годы были дорогими (от молока — 15 коп., от пива и водки — 12 коп., а булка стоила 12 коп., хлеб — 14 коп.).
Нам выделили семейное общежитие, где мы прожили примерно неделю, и я снова уехал — завершать свою практику в Вильнюсе. В начале мая вернулся в Таллинн, защитил дипломную работу в июне 1970 года и стал дипломированным инженером по специальности «технология спецматериалов электронной техники». После защиты диплома летом 1970 года согласно порядку того времени мне необходимо было отслужить в армии два месяца — примерно в 40 километрах от Таллинна, в Клоога. Ко мне в Клоога приезжала Лида, и я сбегал в самоволку недалеко от военного лагеря, чтобы побыть с ней и полакомиться привезёнными ею угощениями.
Так как Лида ждала ребёнка, мне надо было найти такую работу по специальности, чтобы предоставлялось семейное общежитие. Я узнал, что в городе Шяуляе в Литве с 1968 года строился и частично уже работал завод «Нуклон», принадлежащий Министерству электронной промышленности. На этот завод требовались кадры по моей специальности. Чтобы разузнать подробности, я поехал в конце июня 1970 года в Шяуляй.
ГЛАВА ВТОРАЯ
КАРЬЕРА: ЗАВОД «НУКЛОН»
Таллинн
В годы нашей учёбы Таллинн был очень красивым, широко разрастался как в центре, так и на окраинах, в городе происходили интересные культурные и спортивные мероприятия. Даже сегодня мы с приятным волнением вспоминаем район Мустамяэ, в котором учились и жили, и пригород Нымме, в трёх километрах от нашего студенческого городка. Сам студгородок состоял из новых современных корпусов института и трёх общежитий. Неподалёку в сосновом бору располагался стадион, где проходили наши спортивные занятия. Помню, там был большой трамплин для лыжного спорта летом и зимой. Поздними вечерами я любил совершать пробежки по территории этого спорткомплекса. Однажды нашёл в траве ёжика и принёс его в общежитие, но через несколько дней вернул его обратно, так как он громко топал по ночам и не давал нам спать.
В каждом общежитии на первом этаже имелось уютное кафе, где можно было завтракать и ужинать. Но более сытно и менее дорого подкрепиться получалось в соседней рабочей столовой, куда я часто наведывался, иногда даже с Лидой. Изредка появлялись какие-то дополнительные деньги, и тогда мы с друзьями или с Лидой ходили в кафе и рестораны недалеко от общежития. Мы часто посещали кинотеатр в Нымме и местное уютное кафе. До войны этот район был дачным пригородом, в котором проживали богатые эстонцы. Много больших деревянных жилых домов до сих пор сохранилось с тех времён. Во дворах большинства домов росли высокие красивые сосны. Так что даже в наши студенческие годы Нымме продолжал выглядеть как курортная местность. Наше с Лидой главное воспоминание о том периоде — это день, когда в 1970 году в роддоме Нымме родился старший сын Витукас.
Гуляя по Таллинну в то время, часто можно было встретить студентов разных вузов, и у всех были шапки разных цветов, в зависимости от учебного заведения. В Литве такого не было. Мне очень нравилось заниматься не в шумном общежитии, а в солидном читальном зале библиотеки имени Крейцвальда, построенной в очень красивом месте на возвышенности Таллинна, в Вышгороде.
В продуктовых и промышленных магазинах товары паковались в качественную упаковочную бумагу, чего в Литве тогда ещё не было. Помню также, как приятно было во время прогулки заглянуть в бар, где всегда подавали горячий грог с миндальными орехами. Правда, там никто долго не засиживался: были только стоячие места. Иногда мы с приятелями или с Лидой навещали пивной бар-ресторан в центре, труднодоступный из-за высокой популярности и большого количества посетителей. Тут было отличное пиво, свиные ножки на закуску и густые облака сигаретного дыма над столами. У дверей многих заведений подобного уровня стояли швейцары, которые регулировали поток клиентов, поэтому от входа тянулись длинные очереди и попасть внутрь было непросто.
Мне нравилось посещать Русский драматический театр в центре Таллинна. На Ратушной площади соседствовали друг с другом самые древние здания города, самые популярные рестораны и кафе и самая старая аптека — и вокруг всегда были толпы туристов и местных жителей. Горожане одевались в те годы довольно современно, в отличие от обычаев Шяуляя. Женщины носили брюки, наряжались в шляпки. Швейные фабрики выпускали модную одежду. Ежемесячно выходил журнал мод «Силуэт» с выкройками, по которым можно было сшить что-то модное самостоятельно. Нас, жителей Литвы, удивляло, что все местные мужчины и женщины весной, зимой и осенью носили головные уборы. Мы привыкли ходить на родине с непокрытой головой и в Эстонии делали то же самое. Но чтобы не прослыть «белыми воронами», всё-таки приобрели себе зимние шапки.
Таллинн расположен в северной Эстонии где-то на 600 км севернее Шяуляя. Зимой здесь выпадало намного больше снега и морозы были сильнее, поэтому одеваться нужно было теплее. Да и сама зима наступала на две недели раньше и заканчивалась на две недели позже, чем в Литве.
Недалеко от железнодорожного вокзала в центре города мы с другом на первом курсе института посещали курсы танцев, благодаря которым гораздо увереннее чувствовали себя на танцплощадках.
На поезде Таллинн — Минск было очень удобно добираться до Шяуляя, а следующим поездом отправляться оттуда в Кретингу. Вся поездка занимала примерно 10 часов. Пару раз я ездил из Таллинна в Ленинград, также поездом. Сообщение было тоже очень удобным.
Для дополнительного заработка (стипендии на всё не хватало), кроме ночной работы в троллейбусном парке, я устроился и на завод имени Пегельмана. На обоих предприятиях работал электриком.
Вспоминаю старинную конфетную фабрику «Калев», выпускавшую вкуснейшую халву, пастилу в шоколаде, джем в тюбиках (как у космонавтов), зефир в шоколаде — то, чего не продавали в то время в магазинах Шяуляя. Мне очень нравились глазированные шоколадом сырочки. Популярными дорогими напитками в те годы были ликёры «Вана Таллинн» и «Кянну кукк» («Старый Таллинн» и «Петух на пне»). По сей день, когда встречаюсь с сокурсниками в Шяуляе, всегда обязательно покупаю бутылочку «Вана Таллинн», чтобы вспомнить молодые годы, проведённые в столице Эстонии.
В столовых было принято подавать сладкий хлебный суп и манную кашу с киселём, что мне очень не нравилось. Впрочем, и эстонцам не нравятся литовские цеппелины. Местные выделялись по сравнению с литовцами более суровым, спокойным характером, высоким уровнем культуры и интеллигентным поведением. Чем-то они напоминали финнов, норвежцев, шведов. Наверное, потому и сам Таллинн производил на меня «западное» впечатление.
Такого развития блата и воровства с предприятий, как в Литве, замечать не приходилось. Я согласен с мнением многих людей, что если бы Эстония не провела столько времени в составе СССР, то по своему экономическому развитию достигла бы уровня высокоразвитой Финляндии. Уже в те годы финны свободно приезжали в Эстонию. В Финляндии существовали ограничения в употреблении спиртных напитков, и цены на них были высокими. Поэтому некоторые, приезжая в Таллинн, упивались до потери сознания.
Эстонские девушки отличались от литовок своей сдержанностью, они были не такими яркими и весёлыми, как русские, и даже не такими, как литовки. Одна из главных причин, почему я обратил внимание на Лиду, — то, что она русская, хоть и всего наполовину. Если бы я не приехал в Таллинн на учёбу, то никогда не встретил бы Лиду, и литовского рода Миркесов, какой существует сегодня, не возникло бы.
Шяуляй
Шяуляй претерпевал заметную трансформацию, и описание различных фактов этого периода нашей жизни позволит установить, как серьёзно менялась жизнь людей и как трудно было лавировать между разными событиями, адаптироваться к происходящим переменам. Конечно, они коснулись и нашей семьи. Лишь спустя многие годы я осознал, насколько непросто было в то время нормально устроиться в жизни и каких серьёзных решений это требовало от всех членов семьи. Мы проходили этот этап хоть и довольно трудно, но всё-таки успешно и достойно. Литовские Миркесы только окрепли и сплотились.
Во время Второй мировой войны в Шяуляе полгорода было разрушено. Поэтому после войны сначала ремонтировались и отстраивались жильё и предприятия, выпускавшие продукцию первой необходимости, чтобы обеспечить горожан хлебом, молочными продуктами и другими насущными товарами. В городе осталось менее половины довоенного населения, и рабочих рук для восстановления города и возобновления производства очень не хватало.
Когда мы с Лидой приехали в 1970–1971 годах, то увидели, каким хмурым и серым был Шяуляй. Особенно удручающим он выглядел на фоне красивого ухоженного Таллинна: повсюду бросались в глаза неприглядные жилые районы, где люди ютились в бараках и обветшалых домах. Нам с Лидой это не нравилось, но нужно было как-то обустраиваться, к тому же с маленьким ребёнком. Я втянулся в работу и не обращал внимания на город, а вот Лида чувствовала себя не очень хорошо и часто вспоминала свою жизнь в Эстонии.
Время нашего приезда в Шяуляй и начало работы на заводе «Нуклон» совпало с периодом, когда республиканские и городские власти при серьёзной поддержке союзных управляющих органов бросили силы и средства на развитие жилищного строительства, инфраструктуры города, постройку новых предприятий, детских садиков и школ, разных объектов культуры. За этот период с конца 1960-х по 1980-е годы в Шяуляе возникли и активно развивались такие предприятия, как наш завод «Нуклон», телевизионный, велосипедный и станкостроительный заводы, мебельная и трикотажная фабрики, кроме того, развивались предприятия пищевой промышленности — хлебозавод, мясокомбинат, рыбный и молочный комбинаты и другие. Был организован Строительный трест, который возводил крупные предприятия и жильё, а позже — пионерские лагеря, корпуса Республиканской больницы и другие необходимые городу объекты.
Литовская власть в Вильнюсе своевременно приняла решение, что развивать нужно не только столицу, но и все регионы равномерно. Это очень помогло в то время укрепить остальные области республики и развить в них промышленность, поднять на должный уровень экономику и качество жизни людей. Эстония и Латвия допустили ошибку, делая ставку только на свои столицы Таллинн и Ригу, и это существенно приостановило развитие их регионов.
После войны в Шяуляе практически не было ни специалистов, ни рабочих, и для быстрого увеличения численности горожан сюда приглашались люди со всего бывшего Советского Союза — многие приезжали из России, Украины, Белоруссии, Эстонии и т. д. Для этой цели строилось множество общежитий и жилых домов для семейных людей, повсюду появлялись детские сады и школы. Для подготовки специалистов и рабочих открылись несколько профтехучилищ, политехникум и Шяуляйский институт. Благодаря высоким темпам строительства и резкому росту населения город начал активно расширяться во все стороны. Были снесены бараки и другое ветхое жильё, вместо них возводились современные жилые дома. Шяуляй быстро менял свой облик. Он становился более привлекательным и удобным. Если после Второй мировой войны в нём осталось жить всего около 19 000 человек, то во время нашего приезда в 1970 году в городе проживало уже 93 000 человек. В 1992 году, в период выхода Литвы из СССР, численность жителей после достижения своего максимального количества в 150 000 человек резко снизилась на 30%, и на сегодняшний день численность жителей Шяуляя составляет всего 100 000 человек. Такое уменьшение стало результатом резкого роста эмиграции: многие литовцы уезжали на заработки в период с 1992 по 2022 год, кроме того, на показатели повлиял и отъезд русскоговорящего населения.
Во второй половине 1980-х Шяуляй стал настоящим современным промышленным городом. Появились парки, велосипедные дорожки, ухоженные улицы и проспекты, в том числе первая в Советском Союзе пешеходная главная улица, на которой мы сейчас и живём.
Невзирая на то, что экономическая жизнь в Шяуляе быстро улучшалась, нам с Лидой часто вспоминалась наша жизнь в Таллинне. Здесь в отличие от столицы Эстонии встречались случаи взяток и воровства с предприятий, люди одевались попроще, не носили брючных костюмов и шляп, больше выпивали. Было меньше интеллигентных людей, отсутствовали высотные дома… И в то же время климат был гораздо теплее, и море на западе Литвы было незамерзающим, а дороги — на тот момент лучшими в Прибалтике. Большое распространение получили финские бани с шашлыками, а популярными напитками считались «Палангос», «Меджётою», «Дайнавос», которые мы возили в другие республики как литовские сувениры. Национальными блюдами в Литве были (и остаются) цеппелины с начинкой из мяса или творога, холодный борщ из свёклы и кефира с горячей картошкой, ведерай и кугелис из тёртой картошки. Цены на продукты и товары устанавливались такие же, как и во всех других республиках Союза. Мясные и колбасные продукты, изготовленные в Шяуляе, в основном вывозились в Москву и Ленинград, а у нас оказывались дефицитом. Но по сей день все помнят о руководителях города, очень много сделавших, чтобы он развивался, стал красивым и удобным: это председатель горсовета В. Казанавичюс, после него К. Залецкас, его заместитель по строительству З. Сабалис и главный дизайнер города В. Пуронас.
Промышленность, экономика и многие другие отрасли начали успешно восстанавливаться. Никто не мог ожидать такой трагедии, которая у многих случилась в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В результате недальновидной политики как союзного руководства, так и отдельных республик экономика страны быстро разрушалась, и в конце концов СССР рухнул. Я ни в коем случае не спорю с теми, кто утверждает, что отделение Литвы от Советского Союза было ошибочным шагом. Но по Конституции СССР республики имели на это право. Если бы правительство ввело надлежащее правление государством, чтобы люди чувствовали себя экономически и политически защищёнными, жили свободнее и не хуже, чем в западных странах, то вполне вероятно, что Советский Союз и не распался бы. На мой взгляд, после развала СССР и выхода Литвы из его состава новые литовские руководители приняли очень спорные и не совсем дальновидные решения по перестройке всей экономики республики. В результате сомнительной приватизации, а на самом деле «прихватизации», разрушилась почти вся передовая промышленность Литвы, а также сельское хозяйство. Это привело к полной или частичной остановке предприятий, появилось много безработных, людям стало не на что жить. Помню, как в то время обратилась ко мне бывший ведущий специалист-химик с моего завода «Нуклон» и просила устроить её хоть на какую-нибудь работу, хоть уборщицей, чтобы она только не умерла с голоду. Как во все критические времена, так и в это время подняли головы мафиозные структуры, резко возросло число грабежей и убийств. Чтобы выжить, многие люди приняли решение уехать на заработки в Англию, Швецию, Норвегию, Ирландию, Германию, США и т. д. В Шяуляе примерно из 150 000 жителей уехало за границу на заработки около 50 000 человек, то есть каждый третий житель города. Конечно, такая разруха была катастрофой, и для восстановления требовалось много времени. Так как я своевременно занялся бизнесом, наша семья сумела остаться на плаву и не пропасть в тот тяжёлый период. Мы с Лидой помним не только резкое ухудшение материального положения людей, но и высокое политическое напряжение между Литвой и СССР в конце 1980-х годов. В 1989 году в Литву и в Шяуляй приезжал президент СССР Михаил Горбачёв с женой Раисой. Лида даже видела их с четвёртого этажа здания своей работы. Целью приезда Горбачёва было убедить руководителей Литвы отказаться от объявления независимости и далее остаться в составе Союза. Когда мы ехали в то время в свой сад, вдоль дороги у телебашни стояли несколько танков Советской армии. По Шяуляю ходили и советские, и литовские солдаты. А наш сын в то время ещё служил рядом с Шяуляем в Армии СССР. Никто не знал, что может случиться завтра, поэтому обстановка была крайне напряжённой и все, включая нашу семью, боялись неопределённости будущего. Затем началась экономическая блокада Литвы со стороны правителей СССР. Практически невозможно стало достать бензин для автомашин и некоторые ходовые повседневные товары. Не стало горячей воды в домах, уровень отопления резко снизился. В Вильнюсе начались столкновения народа с вооружёнными силами СССР у телебашни, у Парламента Республики. Погибло немало мирных жителей Литвы. Атмосфера была накалена до предела. Такая напряжённая обстановка в стране продлилась вплоть до самого развала Советского Союза и назначения Б. Ельцина президентом России, то есть до самого момента, как Литва стала самостоятельным государством.
Понемногу стараниями предпринимателей и трудящихся граждан экономическая ситуация в Литве и в Шяуляе после выхода страны из состава СССР улучшалась: начали открываться новые малые и большие предприятия, резко снизился уровень безработицы, у людей вновь появилась вера в собственное будущее. Силами республиканской и местной властей была проведена большая работа по уничтожению разных мафиозных структур.
Завод «Нуклон»
Как и планировалось, в конце июня 1970 года я поехал в город Шяуляй на строящийся завод «Нуклон». Там в арендуемых помещениях с 1968 года уже производилось несколько видов микросхем, разработанных на предприятиях Риги и Вильнюса, специализировавшихся на выпуске микросхем для гражданской и военной промышленности СССР и стран Варшавского договора. Я намеревался решить вопрос со своим трудоустройством и получением общежития для нашей семьи, чтобы после защиты диплома Лида могла приехать с сыном ко мне в Шяуляй. По результатам собеседования главный инженер завода Чесловас Костецкий заверил, что с удовольствием примет на работу и меня, и мою жену согласно нашим специальностям, но помочь с общежитием пока не обещает, так как строительство самого здания всё ещё не закончено. Он попросил меня оставить свои координаты, чтобы информировать, если в этом вопросе появится определённость.
Я поехал в Кретингу к маме и начал искать дополнительные варианты работы и жилья. И получил помощь от своего дяди Витаутаса Савицкиса, который в то время жил в Клайпеде и занимал должность директора политехникума. Мне предложили преподавать там физику и электротехнику и пообещали сразу выделить семейное общежитие. Я с большим удовольствием согласился, и в конце августа 1970 года был оформлен преподавателем техникума и получил ключи от комнаты. С 1 сентября началась моя трудовая деятельность. У меня не было преподавательского опыта, но, несмотря на это, работать было необходимо. Я до сих пор помню, как готовился к урокам по учебникам своих предметов. Изложить сам материал не составляло трудностей, но проводить занятия со студентами, не имея подобного опыта, мне было непросто. В основном мои занятия посещали девушки 15–16 лет, причём довольно смелые. Например, для них было в порядке вещей спросить: «Учитель, а почему вы так рано женились? И можно ли прийти к вам в общежитие сдавать экзамены?» Я проработал около двух месяцев, и в конце октября вдруг получил неожиданную и радостную новость, что в Шяуляе решился вопрос с семейным общежитием для нашей семьи и меня приглашают работать на заводе. Дядя Витаутас вошёл в моё положение и доброжелательно согласился отпустить меня. Я до сих пор очень ему благодарен. В те годы институты направляли студентов на конкретное предприятие, где нужно было отработать минимум три года. И дяде было довольно сложно ради меня обойти все эти условия.
В начале ноября я безотлагательно поехал оформляться на новую работу, предвкушая, как начну обживать нашу семейную комнату. Тот период был переходом от беззаботной молодости к новому этапу жизни, где я должен был думать уже не только о себе, но и о своей семье. Для этого требовалось заботиться в первую очередь о материальной обеспеченности. Тем более, что родители Лиды жили от нас далеко, в Эстонии, а моя мать — в Кретинге, в 130 км от Шяуляя, тоже не близко. К тому же мне хотелось быть независимым и самому преодолевать все препятствия.
В то время на строящемся заводе трудилось всего около 150 человек: администрация, инженерно-технические работники и рабочие. В связи с нехваткой рабочих рук молодых специалистов направляли на стройку подсобными рабочими. Направили и меня: я копал канавы, выравнивал землю… Сама работа, конечно, мне не нравилась, но зато я получал двойную зарплату: и как инженер, и как рабочий. Для нас с Лидой эти деньги были очень кстати. В то время мой оклад составлял 105 руб. как у семейного с ребёнком. А несемейные (одиночки) получали 95 руб. Кроме этого, все получали до 40% премии ежемесячно.
Так как дипломная работа у меня была связана с производством интегральных микросхем, где на поверхность предварительно необходимо было напылять спецматериалы, меня назначили инженером-технологом на участок вакуумного напыления. Начальником этого участка в то время был очень деловой и умный руководитель Алфонсас Богучанскас. Он и сейчас вспоминается мне как образец руководителя. Повезло мне и с непосредственным руководством: это был Йонас Жентикас, отвечавший за технологическое сопровождение производства на участке вакуумного напыления. Он был немного старше меня, очень опытный и знающий специалист. Я перенял от него необходимые навыки и знания, с которыми не сталкивался во время учёбы в институте: например, умение решать возникающие в производстве проблемы. Я сдружился с Йонасом, бывал у него в гостях.
Завод постоянно расширялся, создавались новые участки и службы, нанималось всё больше сотрудников. В 1971 году было создано технологическое бюро, которое несло ответственность за весь технологический процесс. Начальником этого бюро главный инженер завода Ч. Костецкий пригласил опытного специалиста с Паневежского завода телевизионных экранов Брониуса Кведаравичуса. Это был второй человек, который многому научил меня, и мы до сих пор с ним дружим. Пока Лида оканчивала учёбу в Таллинне, моя жизнь состояла из двух частей: работа и вечернее штудирование литературы по специальности, чтобы можно было эффективнее решать проблемы на производстве. Молодые соседки по этажу позже жаловались Лиде, что я не хотел участвовать в их сабантуях и всё занимался своими книгами.
Моим третьим учителем в трудовой деятельности был главный инженер завода Чесловас Костецкий. Я активно старался перенять его аналитический подход к решению задач — как в отношении производства микросхем, так и в разработке необходимых мер для решения текущих задач и внедрения их на практике. Его подход к работе очень помогал мне в дальнейшем на протяжении всей карьеры.
Хотя всё своё время я посвящал работе, но никогда не забывал, что у меня есть семья в Эстонии. Мы с Лидой часто переписывались, она рассказывала о себе и о нашем сыне, а я посылал наброски планировки комнаты, чтобы она посмотрела, как тут можно устроиться.
10 июля 1971 года после защиты диплома Лида приехала в Шяуляй с девятимесячным Витукасом и у нас началась полноценная, как и у других, семейная жизнь. Чтобы обеспечить рабочее место для супруги, я обращался в Шяуляйские электросети, но вся документация была только на литовском языке, а она в то время им не владела. Тогда я договорился с отделом кадров завода «Нуклон» и получил согласие на перевод Лиды на наш завод. Эстония тогда готовила кадры только для своих нужд и не хотела отдавать их за пределы республики. Но поскольку мы были женаты, Лида получила направление на «Нуклон», где вся документация велась на русском языке, и такие специалисты, как Лида, были очень нужны.
Витукаса устроили в ясли недалеко от общежития, для этого пришлось дать первую взятку в своей жизни — привезённую из Минска бутылку дорогого рома, которую мы берегли для особого случая. С 1 августа Лида вышла на работу в отдел главного энергетика завода на должность инженера с окладом в 105 рублей.
Начало нашей самостоятельной жизни нельзя назвать безоблачным, так как заработки были минимальными. У большинства наших соседей в деревнях жили родственники, поэтому им было полегче с пропитанием: привозились деревенские фрукты, овощи, яйца, мясо, сало, молочные продукты. У нас этого не было. В первую очередь мы старались хорошо кормить маленького сына. Ему масло — нам маргарин, ему сметанка и сосиски — а мы просто смотрим, как он хорошо кушает, и радуемся. Витукас обычно спал в коляске, но ему очень нравилось спать между нами на раскладывающемся диване, купленном Лидой в Эстонии на деньги родителей. Заодно она приобрела и другую мебель: трюмо, два кресла, раздвижной стол, книжный шкаф, который использовали как стенку. Помню, как я радовался, что Витукас часто поворачивался личиком ко мне, а не к Лиде.
В середине 1971 года меня перевели на новую должность в технологический отдел: в бюро, которым руководил Б. Кведаравичус. Этот опыт позволил мне разобраться со многими технологическими документами по всему циклу производства микросхем. Я досконально изучил каждую мелкую операцию, соответствующее ей оборудование, оснастку, материалы и конкретные действия. Только при полном соблюдении строгих требований производства можно было получить качественную военную и гражданскую продукцию. Стимулируя повышением оклада, с простого инженера-технолога меня назначили старшим технологом, а затем инженером-конструктором. Когда на производстве возникали сложные технологические вопросы (резко увеличивался брак, падала производительность труда, запускалось новое изделие или новый технологический процесс и т. д.), меня, как и других работников технологического отдела, регулярно направляли на производство, чтобы помочь разобраться. Это было трудно, но очень интересно — ценно, когда твои личные старания дают хороший результат. Работая в этом отделе, я часто ездил в командировки по СССР (Вильнюс, Рига, Таллинн, Минск, Москва, Ленинград, Тула, Калуга и т. д.). Целью, как правило, было узнать что-то новое в совершенствовании производства, необходимого оборудования, оснастки, материалов, чтобы по возвращении в Шяуляй использовать полученный опыт.
Вместе со мной на завод устроился мой сокурсник Ромас Рауба. Он приложил много сил, чтобы нас с ним поставили на первую очередь получения полноценной квартиры от завода. Для этого имели значение в том числе и мои заслуги по работе. В то время получить отдельную квартиру было очень сложно: предполагалось ждать 14 лет. Но мы с Лидой въехали в свою квартиру уже через два года. После общежития она показалась нам просто раем, хотя находилась в спальном районе и была всего лишь двухкомнатной, 41 кв. м: длинные, как вагоны, проходные комнаты и маленькая пятиметровая кухня.
В 1973 году достроилось первое крупное производственное здание (секция № 1), где размещался большой цех по сбору микросхем. Параллельно был построен энергоблок для обеспечения производства необходимыми энергоресурсами (ионообменная станция, азотная станция, водородно-кислородная станция и т. д.).
В 1973 году главный инженер завода направил меня на должность заместителя начальника по технологии этого большого сборочного цеха, где я проработал восемь лет. А Лида тем временем трудилась в построенном энергоблоке в отделе главного энергетика инженером.
Моим руководителем был начальник цеха Пятрас Тускянис. Я вспоминаю о нём как о великолепном организаторе процессов крупного производства. В то время в цеху числилось порядка 500 человек. Производство состояло из нескольких важных участков: сварочная ручная или роботизированная операция по приварке к миниатюрным контактам микросхем очень тонкой золотой или серебряной проволоки с использованием современного оборудования, герметизация микросхем в специальные корпуса в зависимости от изготавливаемого изделия, маркировка микросхем, вычисление электрических параметров каждой микросхемы на сложном измерительном оборудовании, проведение термоциклических испытаний на спецоборудовании от минус 60 до плюс 150 градусов и т. д. Производство на нашем предприятии завершалось обязательной приёмкой всех микросхем службой ОТК, после этого производилась обязательная выборочная проверка всех микросхем специальной службой, которая представляла интересы заказчика и подчинялась военному ведомству в Москве. В Шяуляе этой службой, состоящей примерно из десяти человек, руководил полковник Пятрас Дауетас. Только после этой приёмки продукцию завода можно было отгружать нашим заказчикам в СССР и в страны соцлагеря. Требования к качеству гражданской продукции были немного ниже, было достаточно произвести приёмку службой ОТК.
Завод работал в две смены, некоторые операции производились круглосуточно и даже в выходные дни. Начальнику цеха было непросто руководить таким процессом, но он с этим хорошо справлялся, при этом прекрасно ладил с рабочими: организовывал работу цеховых служб для нужд производства, находил нужные контакты, решал актуальные вопросы с директором завода, главным инженером и другими службами. Он был очень требователен к своим сотрудникам. При этом не имел высшего образования, только среднетехническое. Мы занимали с ним один кабинет, поэтому я мгновенно получал информацию о каких-либо возникших сложностях. Я до сих пор считаю, что наш тандем — его организация производства и мои решения технологических вопросов — был очень удачным. Иногда мы гасили наши профессиональные споры за скромной закуской и выпивкой прямо в кабинете. Это помогало. Насколько трудной была его работа как руководителя, я осознавал, только когда он уходил в отпуск на целый месяц. Это время было для меня просто кошмаром, хотя я и хорошо справлялся со своими временными обязанностями.
В моём подчинении находилась специальная служба — около десяти технологов, ответственных за различные участки производства. Практически на каждом рабочем месте осуществлялся строгий контроль, чтобы технологический процесс соответствовал документации. В случае появления брака в процессе производства необходимо было срочно проанализировать причины и тут же разработать и принять меры по ликвидации проблемы. В противном случае план производства и отгрузки продукции был под угрозой, а это для завода — катастрофа.
Чтобы постоянно улучшать качество продукции, нам приходилось регулярно составлять отчёты, указывая все трудности, наличие брака, причины, предложения по устранению проблем. Кроме того, было необходимо разрабатывать предложения по увеличению производительности труда. Эти отчёты не реже раза в месяц защищались на так называемых «днях качества»: директор и главный инженер завода оценивали работу и мою, и моих технологов. От качества защиты зависели и наши премии к окладу. Вспоминая сейчас тот период, могу сказать, что моя работа на самом деле была ответственной и нелёгкой. Часто приходилось задерживаться по вечерам, трудиться практически в две смены. Все домашние заботы лежали на Лиде. Она и дети редко видели меня дома. К тому же были ещё и командировки. А когда в 1975 году у нас родился второй сын, Виргилиус, хлопот у Лиды стало ещё больше.
И в то же время материальная сторона нашей жизни значительно улучшилась. Я часто писал рационализаторские предложения по увеличению производительности труда и уменьшению брака, а по правилам в те годы за это полагалось ощутимое вознаграждение. Кроме этого, я читал лекции по производству микросхем для некоторых служб завода и участвовал в комиссии по приёму экзаменов в Политехникуме, где учились студенты по специальностям нашего производства. Это тоже оплачивалось.
За время моей работы в сборочном цехе с 1973 по 1981 год (8 лет) завод очень расширился, было построено здание для цеха полупроводниковых кристаллов современного производства — цех кристаллов (секция № 2), в котором работало около 200 человек. А в секции № 3 впоследствии — уже 300. И можно было с уверенностью сказать, что «Нуклон» достиг уровня крупных современных заводов.
Так как при производстве микросхем требовалось большое количество оснастки, оборудования и разных деталей из металла, было построено здание механического цеха в комплекте с бомбоубежищем (оно было необходимо по законам того времени). В механическом цеху работало около 200 человек. Кроме того, каждый военный завод должен был выпускать продукцию ширпотреба (то есть товары широкого потребления). Для этой цели построили отдельный цех, где работало около 150 человек. Для столовой и кулинарии возвели отдельный корпус, дополнительно было предусмотрено помещение для приёма гостей. В достроенных помещениях организовали ещё одно отдельное предприятие — серийное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) под руководством директора и главного инженера завода «Нуклон». Целью СКТБ было совершенствовать и внедрять новые идеи в производстве микросхем. Параллельно строились новые общежития и расширялось строительство квартир для работников завода. После расширения на «Нуклон» стали регулярно приезжать различные делегации, включая руководство республики и Союза. Все очень интересовались современным производством, передовым для того времени.
С лета 1981-го по конец 1982 года в моей карьере начали происходить резкие и неожиданные для меня изменения. Моё вступление в ряды коммунистической партии летом 1981 года в дальнейшем помогло мне успешно делать карьеру. На этот шаг уговорил меня партийный секретарь нашего завода Ричардас Стонис.
Правда, по решению Шяуляйского горкома партии его довольно быстро (через три месяца) сняли с должности. Причиной стало то, что он в Вильнюсе встречался со своими американскими родственниками, приехавшими погостить в Литву. Та встреча была зафиксирована на камеру ответственными работниками КГБ. Так как он не сообщил о будущей встрече заранее в соответствующие органы и не доложился после, по существующим законам секретаря и сняли с должности. Ему повезло, что хотя бы не выгнали из партии. Маленьким, но значимым примером борьбы с инакомыслием в нашей республике было запрещение посещать исторический памятник литовского народа — Крестовую гору (в 10 км от Шяуляя), символизирующую борьбу за свободу Литвы. Позже этот памятник превратился в место, где люди ставили и продолжают ставить десятки тысяч крестов — от маленьких, из спичек, до больших, высотой до десяти метров, при этом благодаря бога за всё хорошее в этом мире и прося защиты от болезней, неудач и войн. В 1993 году на Крестовую гору приезжал даже Папа Римский и провёл там молебен в присутствии огромного числа людей.
В. Баранаускас перед уходом с поста директора завода «Нуклон» в конце 1981 года вынужден был уволить своего водителя только за то, что тот посмел отвезти на служебной «Волге» молодожёнов на Крестовую гору. До сих пор молодожёны во время свадьбы посещают Крестовую гору, прося счастья для своей семейной жизни. Указание уволить водителя директор получил от горкома партии.
Лично я до уговоров о вступлении в партию никакой инициативы насчёт этого не проявлял, помня о том, что я сын еврея, и мои родители со своими семьями были депортированы. Секретарь парткома завода меня успокаивал, что сейчас уже другие времена и что меня должны принять в партию. Поразмыслив, что нечего терять, я написал соответствующее заявление. При вступлении мне предстояло пройти «сито» различных комиссий на заводе и в горкоме партии. Члены комиссий, выслушав меня и обменявшись мнениями, должны были дать согласие либо отказ. При обсуждении моей кандидатуры на заводе в партийном комитете меня поддержали все, кроме одного члена комитета — полковника П. Дауетаса, руководителя службы представителя заказчика на нашем заводе. Он утверждал, что я не достоин быть принятым в партию, так как в должности заместителя начальника цеха проявлял хитрость, работая с его службой при составлении и согласовании рабочих документов от имени завода. Вероятно, он не понимал, что по юридическим канонам документы с самого начала согласовывались с обеих сторон (службами представителя заказчика и от имени завода) и после этого без всякого нажима утверждались обеими сторонами, после чего приобретали силу законных. Если кто-то и был в чём-то «виноват», то только руководитель представителя заказчика. А я лично в тот момент защищал интересы своего завода и стремился учитывать выгоду предприятия. Я поступал тогда так, как старался делать мой отец, работая в Енисейском пароходстве в службе главного ревизора. Не знаю точно, каким образом его хватка и познания в юридических вопросах передались мне, но считаю, что это заслуга нашей еврейской крови.
В результате обсуждений я получил согласие партийного комитета на вступление в партию. Самое главное и последнее согласование, а также окончательное утверждение моей кандидатуры было проведено в Шяуляйском горкоме партии, где председательствовал секретарь горкома Й. Лукаускас. Он лично задал вопрос о национальности моего отца: еврей он или нет. Я подтвердил еврейскую национальность моего отца. Тогда он уточнил, не уеду ли я в Израиль после вступления в партию. Мой ответ был: «О таком пути я не думал и не думаю». После чего я единогласно был принят в ряды коммунистической партии.
У главного инженера завода Ч. Костецкого резко начало пошаливать здоровье, а зона его ответственности была очень большой. Человек невероятно трудолюбивый, он старался всё делать на совесть. В результате этой напряжённой работы с 1968 года по понятным причинам его здоровье стало сдавать. Контроль за всеми процессами производства Костецкий старался держать в своих руках. При этом у него не было ни одного заместителя, которому он мог бы доверять и делегировать часть вопросов. На нашем полупроводниковом производстве в цехе кристаллов с начала 1981 года появился массовый брак. В этом браке, досконально не разобравшись, обвинили службу энергетиков «из-за поставки некачественного азота». В итоге всем сотрудникам службы на несколько месяцев срезали премию. Энергетики пытались сами выяснить причину влияния качества азота на конечный продукт в цехе кристаллов. Но это не дало никаких результатов, выпуск брака продолжался, премии снимались. Летом 1981 года главный инженер Ч. Костецкий принял решение и назначил меня своим заместителем по вопросам энергетики на заводе. Для меня это стало неожиданностью, так как я не имел никакого опыта в данной сфере, в том числе и по изготовлению азота для производства полупроводников. Но главный инженер ждал от моей работы положительных и быстрых результатов. Я начал проводить очень много времени на участке изготовления азота, вник в процесс его производства, общался с рабочими и специалистами участка, выясняя возможную причину проблемы. И по итогам своей двухнедельной работы должен был признать, что вины энергетиков в этом нет. Нужно было проверить возможность брака из-за нарушения технологического производства в самом цехе кристаллов, хотя его специалисты категорически не признавали такой вероятности. Пришлось срочно поднять литературу по производству полупроводников и попробовать выяснить причины этого брака. И мне повезло найти и установить возможные причины, которые могли бы негативно повлиять на процесс в цехе кристаллов. У меня были очень хорошие отношения со специалистами, технологами этого цеха. Я нашёл с ними общий язык, и мы начали вместе, опираясь на информацию из принесённой мною литературы, искать возможную причину брака, подбирать и уточнять технологические режимы на этом участке, в первую очередь на участке диффузионных печей. Наша общая работа дала прекрасные результаты, брак был исключён, а энергетики вновь начали получать премии.
Мне очень нравилось работать под руководством главного инженера Ч. Костецкого, нравилось, что он доверял мне и поручал довольно сложные задания. И было неожиданно и печально, когда он уволился по состояния здоровья: уехал в Вильнюс работать заместителем главного инженера в Институте полупроводников (в то время там главным инженером был доктор наук В. Абрайтис, а директором института был доктор наук К. Климашаускас).
Осенью 1981 года в Москве по предложению директора В. Баранаускаса в Министерстве электронной промышленности меня утвердили главным инженером завода «Нуклон». Так как мне часто в последнее время приходилось замещать Костецкого из-за его болезни и решать множество задач, этот переход на должность главного инженера был плавным и безболезненным. Водителем служебной «Волги» я оставил Адолиса Балтутиса, с которым мы очень подружились. Он очень хорошо и чётко выполнял свою работу, а Лиде он очень нравился за аккуратное вождение и свои человеческие качества.
Когда меня назначили главным инженером, непосредственным моим начальником стал директор завода Витаутас Баранаускас (за время существования «Нуклона» все трое директоров имели имя Витаутас: Витаутас Баранаускас, Витаутас Миркес и Витаутас Сланина — казалось, что от этого имени зависело, кто будет директором). Ему было около 50 лет, он возглавил ещё строящийся завод в 1968 году, был очень строгим и решительным руководителем, поддерживал хорошие деловые связи как в местных, республиканских, так и в союзных руководящих органах. Его стараниями предприятие начало быстро расширяться, набирать работников и специалистов, осваивать и производить сложные изделия микроэлектроники (микросхемы) для военной и гражданской промышленности. Как-то отец Лиды спросил меня: «Сколько вагонов надо, чтобы отгрузить твою продукцию за день?» Я ответил, что всё в кармане поместится. Он удивился: «Надо ли тогда столько работать?» Тот разговор ярко иллюстрировал миниатюрность и сложность нашей продукции.
Во время директорства В. Баранаускаса «Нуклон» стал одним из наиболее значительных предприятий не только в Шяуляе, но и по всей республике. Было запущено производство микросхем во вновь построенных зданиях, возведены объекты для обеспечения основного производства энергетикой, механическими изделиями и т. д. Директор лично занимался только контролем выполнения плана, экономических показателей, а также решением особо сложных вопросов в вышестоящих организациях, таких как Министерство электронной промышленности или Научный центр (г. Зеленоград), где находилось наше непосредственное начальство. Кроме того, он общался с горсоветом и горкомом партии Шяуляя, Советом министров и ЦК партии Литовской Республики. При такой большой загрузке у него практически не оставалось времени вникать в технические вопросы — они оставались мне. Никаких разногласий между нами не существовало. Мы всегда находили общий язык. В то время я ставил себе целью сделать всё возможное для внедрения более совершенных изделий, улучшения качества продукции, существенного увеличения производительности труда. Мне очень не нравилось состояние условий производства в цехах. В плохих условиях не могут качественно производиться современные сложные изделия. Хорошим примером для подражания стал в то время телевизионный завод, возглавляемый директором Повиласом Моркунасом, руководившим предприятием с момента его создания (с 1964 года). Я не раз посещал этот завод и восхищался его оформлением. Красиво и удобно обустроены были не только рабочие места в цехах, но и подсобные помещения, а в некоторых цехах даже имелись свои бани. Каждому начальнику на своём заводе П. Моркунас ставил две ключевые задачи: выполнять непосредственный план и отвечать за функциональное оборудование всех своих помещений на высоком современном уровне. Такой подход на телевизионном заводе для меня был образцом и вдохновением для внедрения подобного опыта и на «Нуклоне».
Как у главного инженера, у меня были огромные рабочие планы и соответствующая зона ответственности. И мыслей о том, что я хочу быть директором завода и что могу быть им назначен, у меня не возникало и в помине. Я считал, что в 34 года нахожусь на своём месте и что мне надо ещё много лет проработать главным инженером, чтобы основательно утвердиться на этой должности. Но судьба распорядилась иначе. В 1982 году произошло то, чего я никак не ожидал.
Весной 1982 года от директора завода я получил информацию, что к лету в Шяуляй собирается приехать со свитой министр электронной промышленности и депутат Верховного Совета СССР от Шяуляйского края Александр Шокин. Мне очень хочется отдельно рассказать об этом гениальном человеке. Он родился в 1909-м и умер в 1988 году. При нём было организовано Министерство электронной промышленности, которое он и возглавил. По его инициативе и под его руководством в Подмосковье вырос город Зеленоград, где открылся самый современный в стране Научный центр электронной промышленности, были построены и оборудованы ведущие научные и производственные предприятия электронной отрасли всего Советского Союза. Организовать такие сложные процессы мог только выдающийся человек. И я очень горжусь тем, что мне удалось общаться и работать с ним вместе. Его заслуги неоднократно были оценены самыми высокими государственными наградами: дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1979), семь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, два ордена Красной Звезды (1943, 1944), Сталинская премия первой степени (1952) — за работу в области техники, Сталинская премия (1953), Ленинская премия (1984), медали. В соответствии со статусом дважды Героя Социалистического Труда по «Положению об орденах, медалях и почётных званиях» бронзовый бюст Шокина был установлен напротив входа в Научный центр в городе Зеленограде ещё при его жизни.
Именно по его личной инициативе в Шяуляе был построен и оборудован один из самых современных заводов Литвы — завод «Нуклон» и СКТБ (серийно-конструкторское технологическое бюро). Также благодаря ему наш завод вошёл в Научный центр — объединение самых современных предприятий того времени при Министерстве электронной промышленности, что позволяло получать современное оборудование и технологии.
Городу Шяуляю и всему Шяуляйскому краю очень повезло иметь в Верховном Совете СССР такого представителя, как депутат Александр Шокин. Благодаря ему город и район получали различные дефицитные материалы и оборудование, утверждалось строительство объектов соцкультуры и промышленности, в том числе строительство жилых домов. Благодаря А. Шокину у руководителей города и района, как и у руководства Литвы, появлялись многочисленные важные контакты в Москве, которые помогали оперативно решать возникающие в республике и в Шяуляйском регионе проблемы. Даже сейчас очень трудно оценить, какой огромный личный вклад внёс А. Шокин в развитие Шяуляйского края и Литовской Республики. При этом в жизни он был очень скромным человеком. Однажды вместе с руководством города я побывал в его квартире, чтобы поздравить с днём рождения. Меня удивило скромное убранство той сравнительно небольшой квартиры, хотя помню, что на стенах было много картин. Мы в тот день тоже подарили ему картину нашего местного художника.
Директор В. Баранаускас предупредил всех начальников о приезде министра, попросив, чтобы везде был порядок. Воспользовавшись моментом, я потребовал от руководителей обслуживающих подразделений не только «подчиститься», но и произвести более крупные ремонтные работы (новые перегородки, половые покрытия, красильные работы и т. д.). А начальников крупных конструкторских и технических подразделений, ответственных за техническое перевооружение предприятия, попросил сделать стенды и подготовить сопутствующий материал с наглядной информацией о параметрах и особенностях нашего перспективного производства. Сам же я решил тщательно подготовиться по вопросам, которые, по моему мнению, мог бы задать министр. И как показали события, эта подготовка была не напрасной.
В конце лета 1981 года из Москвы в Ригу прибыл министр Александр Иванович Шокин в сопровождении сотрудников и генерального директора Научного центра Эдуарда Евгеньевича Иванова, а также представителей Министерства электронной промышленности. До литовской границы их сопровождала латвийская делегация, а после — руководящие работники Литвы и города Шяуляя, чтобы препроводить министра в гостиницу и обсудить важные вопросы.
На следующий день на нашем заводе делегацию, возглавляемую министром электронной промышленности А. Шокиным, встречали директор завода, секретари парткома, комсомола, председатель профсоюза и я как главный инженер завода. Руководители всех подразделений завода находились на рабочих местах и следили за порядком. Понять заранее, что заинтересует министра, было невозможно. Как правило, он принимал решения экспромтом. Поэтому мы должны были подготовиться к любому варианту. Предполагалось, что после посещения объектов завода он захочет обсудить свои наблюдения, поинтересоваться существующим положением и перспективами предприятия. Для этой беседы мы обустроили небольшой зал, на стенах которого уже висели плакаты с необходимой информацией. При обходе различных объектов завода министра сопровождал наш директор, а также начальники этих цехов и подразделений. Попутно министр задавал вопросы простым рабочим, интересовался их трудовым процессом. Я намеренно держался немного в стороне, но в любую минуту был готов включиться в разговор. По итогам обхода никаких претензий нам предъявлено не было, что говорило о хорошей, основательной подготовке к этому событию.
Не скрою, для меня оно было очень значимым — ведь в том числе это была и проверка моей работы (в течение нескольких месяцев) на должности главного инженера. Я очень переживал за качество своего возможного доклада министру и генеральному директору Научного центра. Первым делом министр обратился к В. Баранаускасу и попросил его более подробно рассказать о перспективах производства современной продукции. Но наш директор не смог полностью раскрыть эту тему. Возможно, он не подготовился по конкретным вопросам. И тогда министр попросил ответить на них меня. Мои ответы полностью его удовлетворили. Я не знал, что та встреча с министром в небольшом зале станет поворотной в моей судьбе. Как мне кажется, последующее увольнение директора В. Баранаускаса было связано не только с качеством его доклада, но и с более вескими причинами, например, его сложными отношениями с генеральным директором Научного центра.
В конце августа 1981 года мне стало известно, что глава нашего предприятия увольняется и на его место ищут другого человека, не только среди заместителей, но и среди внешних кандидатов из Вильнюса. По каким-то причинам эти поиски долго не приносили результата. В конце сентября 1981 года до меня дошли какие-то слухи, что рассматривается и моя кандидатура. Я не воспринимал эти разговоры всерьёз, но на всякий случай мы с Лидой решили: если возникнет такое предложение, я категорически откажусь, ведь на должности главного инженера нахожусь совсем недолго, не имею опыта руководства таким крупным предприятием.
В начале января 1982 года меня вызвали к руководству Научного центра в Зеленограде, не пояснив причин. В глубине души мы с Лидой надеялись, что это не связано с возможным назначением на должность, но на всякий случай я заранее продумал аргументы против. В условленный день меня встретил заместитель генерального директора по кадрам и режиму Вячеслав Григорьевич Бочкарёв и без каких-либо разъяснений отвёл к генеральному директору Научного центра. Эдуард Евгеньевич Иванов обладал прямолинейным характером, поэтому сразу объявил мне, что по согласованию с министром А. Шокиным и властями города Шяуляя меня назначают директором завода «Нуклон» и предоставляют четырёхкомнатную квартиру в центре. Я попытался было возразить, что не справлюсь с этой работой и мне рано занимать такую должность. Мне дали понять, что этот вопрос уже решён, и в Шяуляй я приеду директором завода. Все вопросы по моему оформлению Иванов поручил своему заместителю Бочкарёву.
Окончательно вступить в должность я смог только после утверждения в коллегии Министерства электронной промышленности. Заседанием руководил сам министр. Меня, очень волнующегося, пригласили в зал и провели на специальное место, откуда я должен был отвечать на вопросы членов коллегии. От волнений спас меня Александр Иванович Шокин, сказав присутствующим, что нечего расспрашивать нового директора и что он сам лично рекомендует членам коллегии утвердить меня в этой должности. Так, во второй половине января 1982 года, министр подписал положительное решение коллегии, и я вернулся в Шяуляй полноправным руководителем завода. Лида, узнав новости, вовсе не радовалась, а плакала. Я утешал её тем, что нам выделят четырёхкомнатную квартиру в центре города (в то время мы жили в двухкомнатной квартире старой планировки, с проходными комнатами и крошечной кухней, и отец Лиды жил вместе с нами). Городские власти выполнили обещание: наше новое жильё было действительно для нас очень хорошим.
Я часто задумывался, каким образом меня поставили директором огромного предприятия, работавшего на военную промышленность, если мой отец еврей, а родственники подверглись депортации? Есть множество примеров, когда в похожей ситуации другим людям было фактически невозможно сделать такую карьеру. Данные своей биографии я не скрывал — такие органы, как КГБ, городские, республиканские и всесоюзные партийные власти, отделы режимов и кадров завода, а также Научного центра и Министерства электронной промышленности были прекрасно обо всём осведомлены.
Сейчас у меня есть ответ на этот вопрос. Решающим оказался тот факт, что на работе я всегда старался добиться лучших результатов, невзирая на трудности. Эти старания замечали и непосредственные руководители, и коллеги. Конечно, в моей ситуации помог и случай: в 1981 году я оказался в нужное время в нужном месте — в зале совещаний на встрече с министром. После того дня Александр Иванович обратил на меня внимание и способствовал моему продвижению. Такому человеку, имевшему огромное влияние в высших кругах руководства СССР, практически никто не мог возразить. Поэтому решение министра было неоспоримо.
В 35 лет стать директором такого современного и крупного предприятия — это крутой поворот в жизни и большое событие. Всё осложнялась тем, что я не имел никакого опыта руководства заводом. К тому же завод остался без главного инженера. Ситуация была сложной и критической. Производственного плана и других поставленных перед заводом задач никто не снимал, они требовали выполнения. Я был вынужден срочно постигать азы управления. Поначалу это было трудно, но по мере приложения усилий всё постепенно становилось на свои места. Очень помогало то, что у меня сложились прекрасные отношения с руководителями многих служб завода — мне нужно было просто добиться их поддержки и далее решать поставленные задачи сообща.
Трудности с поиском главного инженера
Первостепенной задачей для меня стал поиск нового главного инженера. Все технические и технологические сложности могли решаться только под руководством энергичного, умного и опытного специалиста. Претендентов было, откровенно говоря, мало. Тем более, что я был обязан согласовать кандидатуру с городскими партийными органами, Научным центром и министерством, а также получить согласие от Комитета госбезопасности. Я видел на должности главного инженера бывшего начальника службы технологического отдела и моего друга Брониуса Кведаравичюса. Он был очень образованным специалистом, знающим технические особенности завода, очень трудолюбивым и порядочным человеком, пользовавшимся большим авторитетом среди коллег. Я получил его предварительное согласие и был уверен, что кандидатура будет согласована в соответствующих службах. Однако получил отказ от органов КГБ. И только спустя много лет я узнал от самого Брониуса Кведаравичюса о причине такого решения. При проверке личного дела Б. Кведаравичюса и его родственников КГБ ошибочно установил, что они подвергались высылке из Литвы. В действительности это были однофамильцы. И эта ошибка в то время не позволила поставить на должность главного инженера очень перспективного специалиста.
Второй кандидатурой был начальник конструкторского бюро по измерительным электронным приборам Пятрас Ропе. Я лично знал его как профессионала своего дела и хорошего организатора, он пользовался большим уважением среди коллег. Мы оперативно оформили все документы, согласовали с необходимыми службами, и в марте 1982 года в Москве его утвердили главным инженером завода. Я был очень этому рад и рассчитывал на хорошие результаты. Но столкнулся с такой неожиданностью, которой не пожелал бы и врагу. Через несколько дней после назначения я послал в Москву группу начальников служб под руководством П. Ропе. Они ехали разными поездами. В Москве требовалось решить вопросы по обеспечению оборудованием, по фонду заработной платы, численности работников и т. д. На следующий день после отъезда мне сообщили о серьёзном ЧП: в министерство и Научный центр прибыли все, кроме главного инженера. Я срочно собрал на заводе совещание, мы стали обсуждать возможные версии. Предполагали, что его схватила и увезла с собой разведслужба другой страны. Я позвонил в Зеленоград Бочкарёву, сообщил о неожиданной пропаже и попросил помощи в розыске. Как сейчас помню, этим сразу занялись соответствующие государственные службы. Фотографии главного инженера были на всех вокзалах и в аэропортах. Меня лично чуть не хватил удар — пришлось поехать домой, чтобы как-то очухаться. Лида обнаружила меня на матрасе в комнате и очень испугалась (мы тогда ещё не обзавелись мебелью и спали на матрасах).
Параллельно с Москвой на заводе мы продолжали расследование. Организовали прослушку телефонов в семье Ропе и на службе. Выяснили, что вместе с ним в одном купе ехал бывший сотрудник Олег Пумпутис. И прослушка домашнего телефона Пумпутиса показала, что Ропе и Пумпутис находятся в Москве в квартире родственников Пумпутиса и прекрасно проводят время с женщинами, забыв про всё на свете. Я сразу сообщил об этом в Москву. Мы дозвонились в квартиру, где находился Ропе, и потребовали, чтобы он немедленно возвращался в Шяуляй. После чего он был мгновенно снят с должности. Министр А. Шокин предлагал мне самому определить дальнейшую судьбу провинившегося — оставить его на должности главного инженера или снять. Моё решение было однозначным: такого человека на ответственной должности я иметь не хочу. Таким образом, к сожалению, завод снова остался без главного инженера.
Нужно было срочно найти замену. Подключились соответствующие службы завода, заинтересованные власти города и службы Научного центра. Остановились мы на кандидатуре Витаутаса Сланина, который работал в то время в цехе полупроводников-кристаллов начальником участка. Он хорошо зарекомендовал себя как с организационной, так и с технической стороны, единственным минусом был возраст — всего около 30 лет. Секретарь Шяуляйского горкома партии Й. Лукаускас убедил меня рискнуть и согласиться. После всех необходимых согласований в Министерстве электронной промышленности В. Сланина был утверждён в апреле 1982 года на должность главного инженера завода «Нуклон». Невзирая на молодость, он прекрасно проявил себя на должности главного инженера, справляясь со сложностями по перевооружению производства. И вскоре многие стали считать его молодость не недостатком, а преимуществом. С момента его назначения в организации многое встало на свои места, главное руководство завода было полностью укомплектовано и могло успешно решать любые задачи, поставленные заводу. А у меня, наконец, появилось больше времени и возможностей решать дополнительные вопросы с руководством Шяуляя, Литвы, Научного центра и министерства.
Тем более, что с их стороны были ожидания серьёзного расширения объёмов производимой нами продукции. Ежегодно завод был обязан увеличивать показатели по объёму производства не менее чем на 20%. Это была очень сложная задача, но мы с ней справлялись. При этом средний рост объёма производства на других предприятиях Литвы не превышал 2–3%. Ответственность ложилась в первую очередь на специалистов завода, но вместе с ними и на всех работников, и, конечно, на руководство. В результате, чтобы выполнять план обеспечения оборонной отрасли нашей продукцией, приходилось вкалывать почти как в военное время. Многие работали по две смены подряд, при необходимости выезжали в срочные командировки, забывали про свои семьи… К такому темпу было нелегко привыкнуть и тем более его выдерживать. Подобная ситуация складывалась не только на «Нуклоне», но и на других предприятиях нашего министерства.
Подбор персонала
Руководителями подразделений завода я был доволен и крайне редко кого-либо увольнял, делая ставку на стабильность коллектива и уверенный настрой на выполнение планов. Однажды, сразу после моего назначения, ко мне в кабинет зашла Люда Вичиене, начальник отдела реализации. Она принесла мне заявление об уходе с должности, пояснив, что является родственницей бывшего директора В. Баранаускаса, и, возможно, по этой причине я не буду ей доверять. Люда была очень хорошим работником и руководителем, о чём я ей и сказал, попросив её и дальше трудиться на своей должности. Никогда об этом впоследствии не жалел, между нами даже установились очень хорошие человеческие отношения.
За всё время моей работы директором на меня поступила всего одна жалоба. Об этом мне сообщили из Научного центра. Для проверки на завод был направлен заместитель генерального директора по кадрам и режиму В. Бочкарёв. Он попросил меня дать пояснения по каждому пункту этой анонимной претензии, затем переговорил и с другими руководителями подразделений, которые могли полностью знать реальную ситуацию. Проверяющий пришёл к выводу, что оснований для беспокойства нет — жалоба «пустая». Я начал ломать голову, кто мог написать эту анонимку и почему. Вчитавшись в текст, понял, что такими данными могли пользоваться только двое руководителей серьёзных подразделений. И оба были недовольны моим назначением. К тому же у меня были претензии к их работе. Встал вопрос: как поступить с жалобщиками? Уволить? Это повлекло бы за собой поиск новых кадров и не гарантировало прекращения дальнейшей писанины. В итоге я дал указание значительно повысить им оклады за успехи на производстве. Конечно, я никому, включая жалобщиков, не рассказывал, что узнал их «почерк». В результате ситуация была разряжена, и больше жалоб не поступало: те двое поджали свои хвосты и стали хорошо работать.
Чтобы ежегодно наращивать объём производства не менее чем на 20%, требовалось: — обеспечивать завод необходимым количеством новых и опытных специалистов, в том числе и молодых; — строить и оборудовать производственные цеха на новых площадях; — внедрять в производство более современные и более сложные изделия.
Литва практически не готовила специалистов по нашему производственному профилю, поэтому мы были вынуждены привлекать их со всего СССР, обеспечивая всё новыми общежитиями, в том числе и семейного типа.
Как директор предприятия я добился того, что практически все специалисты сразу обеспечивались общежитиями, в течение 4–5 лет — кооперативными квартирами (платными), а в течение 8–9 лет — государственными (бесплатными) квартирами. В то время жильё было одной из самых важных задач, и мы в целом неплохо с ней справлялись. За годы моего руководства специалистам были значительно повышены оклады, для них были улучшены условия труда, расширились возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все сотрудники осознавали свою нужность на заводе и ощущали значимость своей работы.
Мне часто приходилось выступать на различных производственных, партийных и других собраниях: рассказывать о существующем и перспективном производстве «Нуклона», о развитии социальной сферы и решении возникающих проблем. Иногда приходилось отвечать на вопросы слушателей. Так или иначе, на своих выступлениях я практически не пользовался никакими записями.
Расширение производства
Продолжалось развитие производственных мощностей на ранее построенных площадях. С начала 1980-х годов везде в СССР заметно застопорилось расширение и переоборудование производства. Конечно, это коснулось и нас. Утвердить постройку новых производственных объектов стало практически невозможно, на это не выделялись централизованные средства и строительные мощности. Поэтому я вынужден был продолжать строительство исключительно хозспособом, то есть силами самого завода. Пришлось принять в штат множество строителей, самим решать вопрос по обеспечению строительными материалами и проектами. Решение о строительстве хозспособом было для меня крайне ответственным шагом, ведь его результатом могло стать в том числе и судебное преследование. Чтобы смягчить риски, я старался постоянно информировать власти города, Литвы, руководство Научного центра и министерства о том, как мы расширяем и собираемся далее расширять заводские площади для дальнейшего производства, организуя строительство собственными ресурсами предприятия. На словах все поддерживали меня в этом решении, однако никаких официальных документов никто не подписывал. Так, со временем крупный измерительный цех готовой продукции был оснащён самым современным оборудованием и расположен в огромном, построенном хозспособом здании. Таким же образом готовился проект существенного расширения цеха кристаллов-полупроводников: в новых помещениях предполагалось поставить самое современное в то время в Союзе оборудование и создать условия для производства новейших микросхем. Помню, что на таком производстве предусматривался даже бассейн, в котором обязаны были выкупаться работники до того, как пройти в цех: перед началом работы необходимо минимизировать количество мельчайших загрязнений, так как стерильность крайне важна при производстве полупроводниковых кристаллов для микросхем. Соответственно, санитарные требования были довольно жёсткими, но вполне оправданными. Очень жаль, что внезапно наступивший продолжительный экономический кризис в Союзе остановил реализацию многих наших идей.
Мы успели закончить строительство девятиэтажного административного здания и большого современного пионерского лагеря, начали строить заводской Дом культуры. В административном здании был оборудован мой кабинет с потайным входом в отдельное помещение (комнатку с кухней) для приёма особо важных гостей. Это стало иметь значение, когда генеральный секретарь Горбачёв ввёл строжайший контроль за потреблением алкоголя. Помню, как моя секретарша Надя Васильева подавала спиртные напитки в кофейных чашках, наливая их из кофейника.
Таким же образом угощали меня и в Вильнюсе у генерального директора Института полупроводников К. Климашаускаса. На выпускном празднике нашего сына Витукаса в актовом зале школы также стояли кофейные сервизы с алкоголем — по-другому в то время было просто нельзя.
Приток новых специалистов, строительство и оборудование новых производственных цехов, постоянное техническое перевооружение позволяли нам внедрять и изготавливать всё более и более современные микросхемы. Поставленные перед «Нуклоном» планы выполнялись. По результатам работы в 1985 году завод был отмечен призовым третьим местом в социалистическом соревновании среди примерно 500 предприятий Министерства электронной промышленности. В то время подобные методы оценки работы были широко распространены в СССР. По результатам соцсоревнования заводу выделяли дополнительные премии для инженерно-технических работников. За успешное руководство «Нуклоном» в том же году меня наградили орденом «Знак Почёта», и это воодушевило меня работать ещё лучше. Число сотрудников достигло около 4 000 человек. По этому показателю наш завод был на втором месте после телевизионного, где тогда работало около 4 500 человек.
Реконструкция завода
Как я уже рассказывал, до моего назначения директором «Нуклон» имел неприглядный и неухоженный вид с неудовлетворительными условиями труда. Я поставил задачу навести порядок — как на производстве, так и во всех бытовых помещениях, чтобы все сотрудники видели, что работают на современном предприятии и сами участвовали в улучшении производственной атмосферы. Важно, чтобы люди чувствовали, что о них действительно заботятся, а не только требуют выполнения плана. Образцом в этом отношении был телевизионный завод города Шяуляя, которым руководил П. Моркунас. Я требовал, чтобы все руководители подразделений лично съездили и познакомились с методами поддержания порядка на этом предприятии, а затем безотлагательно внедрили его опыт у себя в подразделениях. Для этих целей я выделял необходимые денежные средства и материалы.
Веский вклад в улучшение внешнего вида и качества рабочих условий на заводе, в цехах и в помещениях для отдыха сделал наш главный дизайнер Викторас Куницкас. Я назначил его впоследствии своим заместителем, поручив руководить процессом выполнения этих работ. В итоге завод приобрёл более современный вид, а условия труда существенно улучшились.
Компьютеризация детских садов и школ
В 1985 году на заводе впервые начали выпуск компьютеров, разработанных в Научном центре в Зеленограде. В то время это было огромным событием в СССР. Первый компьютер мы с большим успехом продемонстрировали первому секретарю КП Литвы П. Гришкявичусу. Этой продукцией тут же заинтересовались научные, медицинские и другие предприятия республики: они изыскивали возможности приобрести новинку на нашем заводе. Когда спустя несколько лет я пребывал в санатории города Паланги, состояние моего организма исследовали при помощи одного из наших компьютеров.
Компьютеризация производства, науки, медицины, образования и т. д. в то время была огромным скачком в развитии этих отраслей в СССР. Мне было очень отрадно, что наш завод принял в этом непосредственное участие. Одними из первых в Союзе и первыми в Литве мы начали внедрять довольно сложные на тот момент компьютеры, изготовленные в Зеленограде, в школьных учреждениях: первые классы в школах Шяуляя были оборудованы нашими компьютерами бесплатно (для организации этого процесса я создал на заводе специальную службу). Следом было решено поставить чуть менее сложную технику и в детские садики города. В СССР мы были первыми, кто это сделал. За установку компьютеров в детских садах Министерство электронной промышленности пригрозило мне уголовным делом за разбазаривание государственных средств. И, как всегда, меня выручил Александр Иванович Шокин. Мы продемонстрировали министру работу компьютеров в школах и детских садах, он горячо поддержал этот шаг, и больше об уголовных делах разговоров не возникало.
Командировки
Будучи директором, я, как и раньше, часто ездил в командировки. В основном в Москву в Министерство электронной промышленности и в Зеленоград в Научный центр. В среднем за декаду три дня я проводил в командировках. В моём распоряжении были легковая машина с водителем и постоянный отдельный номер в гостинице. В результате оставалось больше времени на необходимые встречи и решение серьёзных вопросов. Это было особенно актуально, когда внезапно поступал приказ о незапланированном визите в Москву или Зеленоград на важное совещание. В таком случае срочно приобретались авиабилеты на рейсы из Риги или Вильнюса. В аэропорт и обратно меня обычно отвозил на служебной «Волге» мой личный водитель А. Балтутис или дежурный водитель К. Шевелёв. Оба работали добросовестно, не считались со своим временем, были очень порядочными людьми. В благодарность я добился в горсовете, чтобы они получили хорошие просторные квартиры, помог получить земельные участки и материалы для строительства садовых домиков.
Интересная история произошла однажды во время моей командировки в Минск на самое крупное в Белоруссии предприятие электроники «Интеграл». Нас с главным инженером вёз на микроавтобусе водитель К. Шевелёв. По возвращении из Минска мы выпили в машине по бутылке пива. Главный инженер переоделся в спортивный костюм, а я остался в пальто. Была зима, все стёкла залепил снег. Водитель остановил машину и пошёл протирать их. Было темно. После выпитого мы вышли на улицу по надобности. Водитель протёр стёкла, сел за руль и, не заметив нашего отсутствия, поехал себе дальше. Главный инженер кричит: «Смотри, он уезжает!» А я ему: «Да это он шутит». Но водитель так и уехал. Метель била нам снегом прямо в глаза. Холодно, а главный инженер — в спортивном костюмчике. Неподалёку мы заметили огоньки, и он предложил идти к людям. Но я беспокоился, что водитель испугается, когда обнаружит пропажу. Проезжие машины перед нами не останавливались, так как главный инженер очень странно выглядел в зимнее время, к тому же дело происходило ночью. Всё это случилось ещё в Белоруссии, недалеко от литовской границы. И только в Литве на бензоколонке водитель обнаружил, что нас нет. Даже под сидениями поискал. Начал спрашивать других водителей, не видели ли они двоих на дороге из Белоруссии в Литву. Те ответили, что видели. Водитель развернул машину и помчал обратно. Когда мы снова забрались в машину, лицо главного инженера было уже перекошено, а я сказал со смехом: «Нельзя было пить пиво в поездке». Позже другие водители говорили К. Шевелёву, что предыдущий директор В. Баранаускас за подобную оплошность сразу бы уволил.
«Дополнительный доход» работников предприятий
На «Нуклоне», как и на других предприятиях Союза, при тогдашнем плановом хозяйстве постоянно разрабатывались нормы расходования материалов, которыми обеспечивалось производство. Если что-то не использовалось, нормы пересматривались и поставки уменьшались. В последние годы работы директором я узнал кое-что интересное про использование высококачественного питьевого спирта. То, что им обеспечивались многие сотрудники, а часть «утекала» в город, для меня не было секретом. Но я не знал, что остатки спирта на производственных участках в конце месяца ликвидировались — их сливали в канализацию, чтобы нормы расходования ни в коем случае не понижались и чтобы спирта хватило не только для работы, но и для всех «нуждающихся» на заводе и в городе. Такова была советская действительность.
После смерти Сталина в 1953 году жизнь людей резко изменилась. Невиновных больше не депортировали — наоборот, освобождали тех, кто находился в ссылке. Стало спокойнее. По сравнению со сталинскими временами это ощущалось как заметное ослабление напряжения. Оно началось с руководства генерального секретаря Н. Хрущёва и наступления периода оттепели, продолжалось при Л. Брежневе и других руководителях СССР. Переход с диктаторского на более демократичное управление страной имел и свои недостатки. Во всех советских республиках (в городах на госпредприятиях и в учреждениях, а в сельской местности — в колхозах и совхозах) начало процветать воровство. Люди уносили с работы всё, что можно было хоть как-то использовать дома или реализовать за деньги.
Если судить по сведениям из разных документальных источников, обнародованных после развала Советского Союза, власти были прекрасно об этом осведомлены. Но они ничего не могли сделать (хоть и проводили иногда показательные суды), так как сами были замешаны в тех преступных схемах. Все понимали, что такое воровство значительно улучшает материальное положение граждан. Других решений по повышению жизненного уровня придумать не могли, а может, и не хотели, и все звенья власти закрывали глаза на происходящее. Руководителям отдельных предприятий, которые хотели навести у себя порядок и исключить хищения, решить этот вопрос было практически невозможно, ведь более высокое начальство с этим явлением не боролось, а наоборот, своими действиями поддерживало его. К примеру, из руководства города меня часто просили неофициально передать им значительные суммы денег для приёма гостей, покупки различных сувениров и т. д. И это считалось в порядке вещей в то время — многие даже соревновались, кто больше утащил.
В Шяуляе было много серьёзных промышленных и пищевых предприятий, которые «обеспечивали» жителей (и не только города) своей продукцией, разными комплектующими, материалами с производства. Например:
―― с нашего завода «удачно уходили» пищевой спирт, золотая проволока высшей пробы и стройматериалы;
―― с телевизионного завода — телевизоры, их комплектующие;
―― с велосипедного завода — велосипеды и запчасти;
―― с трикотажного — шерстяные нитки и готовые изделия;
―― с мясокомбината — мясо, колбасы, копчёные изделия;
―― с кондитерской фабрики — конфеты, шоколад, коньяк;
―― с комбината железобетонных конструкций — ж/б блоки, цемент;
―― с мебельного комбината — мебель, гобелен;
―― со станкостроительного завода — различный инструмент и металл;
―― с молочного комбината — сметана, творог;
―― с мукомольного комбината — мука, зерно;
―― с хлебозавода — готовая продукция и мука;
―― c пивного завода — пиво и квас;
―― с рыбного комбината — копчёная рыба, консервы.
Проходные были на всех предприятиях.
На «Нуклоне», если хочешь вынести канистру спирта, достаточно было дать одну бутылку вахтёрше. Так же и на других предприятиях. Если надо было вывезти на машине более крупные вещи, то на выезде тоже надо было «позолотить ручку», но в более крупных размерах, чем на обычной проходной.
Будни советских граждан
Не могу не упомянуть, как моя жена Лида доброжелательно «помогала» мне в работе. У меня была привычка в конце второй смены приезжать на завод и обходить производственные и энергетические участки. Я выискивал возможные недостатки и на следующий день во время диспетчерского совещания указывал на них. Лида же «болела» за свою службу энергетиков и всякий раз звонила диспетчеру энергослужбы, чтобы тот разбудил всех дежурных по станциям: «Миркес едет к вам!»
В ночное время на работу и обратно я часто ездил на пожарной машине, иногда даже сам был за рулём. Пожарные машины дежурили на заводе круглосуточно, чтобы в случае аварии тушить пожар. Наши соседи по квартире недоумевали, что здесь так часто делает пожарная машина. Когда сестра Лиды Люся приезжала к нам в Шяуляй из Ленинграда, я организовал ей «турпоездку»: повёз на пожарной машине на «Нуклон» и устроил персональную экскурсию по всему производству.
Сотрудники завода занимались не только производственной деятельностью — у нас был замечательный смешанный хор, своя футбольная команда и различные творческие коллективы. Весь «Нуклон» гордился своей группой самых красивых в Литве барабанщиц: они часто выступали на культурных мероприятиях города и всегда возглавляли нашу колонну во время праздничной демонстрации.
Профсоюзы в то время занимались не только организацией спортивных или культурных мероприятий, но и играли очень большую роль в жизни людей: именно через профсоюз можно было получить санаторную или туристическую путёвку в города всего Союза, купить мебель, бытовую технику, заселиться в общежитие или квартиру, добиться денежных пособий. И в этих вопросах тоже, как правило, решающее значение имел блат, а профсоюзные деньги часто использовались для приёма разных гостей.
В 1986 году в СССР недалеко от границы Украины с Белоруссией на Чернобыльской атомной электростанции произошёл взрыв четвёртого энергоблока и утечка большого количества радиоактивных веществ. Чернобыль далеко от Литвы, но отголоски этой катастрофы достигли и нашей республики. Помню, как при проверке фотолитографического оборудования в Институте полупроводников в Вильнюсе в фильтрах были найдены частицы радиации. Правда, мы тогда мало знали о радиации и её воздействии на людей, но после той ужасной аварии все начали задумываться, насколько опасна атомная энергетика. Молодые мужчины, которых в то время отправляли на работу на Чернобыльскую АЭС, всеми силами старались этого избежать, и сегодня доподлинно известно, что многие из них получили раковые заболевания или впоследствии не могли иметь детей. Лидина подруга из Киева писала, что её родители, жившие в пригороде украинской столицы, скоропостижно умерли от воздействия радиации, а у неё самой сильно выпадали волосы. А ещё она рассказывала, как в Киеве по ночам специальные службы мыли крыши домов и асфальт. Лидин однокурсник участвовал в ликвидации этой аварии, и вскоре после этого от него ушла жена, так как, по её мнению, он стал неполноценным мужчиной.
Мне хорошо запомнилось, как в советские годы всех работников практически насильно заставляли ходить на праздничные демонстрации. За результат отвечали начальники подразделений, и, если сотрудник не приходил на демонстрацию, ему грозил перенос отпуска с лета на зиму и снижение месячной премии. Тот же принцип действовал и в отношении Ленинских субботников. Во время всех этих добровольно-принудительных мероприятий большинство участников подогревали себя алкоголем, так что и демонстрации, и субботники проходили относительно весело и легко.
К сожалению, оплата инженерно-технических работников по нормативам того времени часто была значительно меньше, чем у рабочих. Чтобы материально стимулировать работу ИТР, приходилось переводить их с должности инженеров в рабочие. Существенного повышения можно было достигнуть при оформлении рабочим шестого разряда с вредными условиями труда, тогда полагалось ещё и ежедневное бесплатное молоко.
На «Нуклоне» был так называемый «первый отдел», который напрямую контролировался и инструктировался КГБ города. В обязанности этого отдела входила организация работы с секретными документами и спецлитературой. Например, из Министерства электронной промышленности на наш завод ежемесячно поступали секретные журналы с самой свежей информацией (из различных западных источников) по разработке, производству и применению современных электронных изделий, технологий и оборудования. После необходимых проверок «первый отдел» выдавал разрешения — формы разного уровня для визитов сотрудников на секретные предприятия, заводы Советского Союза (должность директора, кстати, предполагала высшую форму секретности, очень помогавшую в различных командировках). Этот отдел следил также за работой секретной спецсвязи с Москвой и другими организациями страны. Я до сих пор уверен, что «первый отдел» и КГБ города прослушивали телефонные разговоры на заводе, проводили слежку за интересующими их работниками, и в первую очередь — за мной как за директором. Не было тайной и то, что осуществлять наблюдение им помогал заместитель директора — мой заместитель по кадрам А. Шяджус, контролируемый органами госбезопасности.
Партийное руководство тоже не оставляло предприятия без своего пристального внимания. Мне регулярно приходилось встречаться и с секретарём Шяуляйского горкома партии Леокадией Ришкуте, которая интересовалась культурной и политической жизнью на нашем заводе.
На «Нуклоне» был создан клуб инженеров, объединивший самых активных специалистов этой области. Участники клуба проводили зимой и летом коллективные семейные праздники и другие культурные мероприятия. Когда я стал директором, этот клуб начал приглашать на свои встречи ещё и почётных гостей с других предприятий города и не только, например, с телевизионного завода пригласили заместителя директора Витаутаса Юшкуса, а из Научного центра — заместителя генерального директора Юрия Николаевича Дьякова. В то время он был вторым лицом в Научном центре и руководил всеми техническими вопросами по разработке и производству микросхем. После праздника Ю. Н. Дьяков поделился впечатлениями со своими зеленоградскими коллегами и рекомендовал перенять наш опыт. Традиции клуба инженеров живы до сих пор: мы регулярно встречаемся в «Кегель баре», которым владеет мой друг Брониус Кведаравичус. Завсегдатаи этих встреч — П. Мажулис с женой, Д. Бендикене, Д. Ясулявичене и другие основатели заводского клуба инженеров.
Из-за огромных нагрузок и постоянной занятости на службе своей семье я уделял недостаточно времени: многим приходилось жертвовать ради работы. Отсутствовал я с утра до поздней ночи, даже по воскресеньям, и часто по нескольку дней из-за командировок. Домой с завода приходил очень уставшим, буквально чтобы переночевать. Поэтому все повседневные тяготы, вся ответственность и решение семейных проблем ложились на хрупкие плечи моей жены Лиды. В первые годы моего директорства ей самой приходилось обеспечивать семью дефицитными товарами: даже картофель, морковь, капусту, мясо, колбасу и другие продукты в то время приходилось как-то добывать, а затем — нести до квартиры. Такая ноша обычно весила более 10 кг. Тогда я этого не замечал, сутками пропадая на работе. Но Лида до сих пор иногда вспоминает эти тяжёлые сумки из нескольких магазинов.
Легче ей стало только в 1984 году, когда меня «прикрепили» к спецмагазину дефицитных продуктов. Проблема покупки колбасных изделий, мяса и других товаров была решена. Обычно Лида ездила с моим водителем, поэтому продукты доставались и ему. В таких магазинах были установлены нормы на количество покупаемых товаров, но всё же это была большая помощь для нашей семьи. В городе были также спецмагазины одежды и обуви, и Лида пользовалась этими возможностями. Но и там не всегда удавалось получить необходимый товар, приходилось прибегать к дополнительным связям. Например, наша соседка по дому, заместитель председателя горсовета по культуре Зина Гаурильчикене, помогла Лиде купить красивое зимнее пальто.
Я очень ценю, что Лида сохранила свой замечательный природный характер и не стала «директоршей». Она никогда не пользовалась своим положением жены руководителя крупного предприятия, и наши дети никогда не требовали каких-то особенных вещей. Они были такими же, как и все дети того времени: одевались в то, что есть, ничего лишнего не имели. Моё директорство никак их не испортило — мы не баловали деньгами. В то время пустые бутылки от молока или пива стоили 12–15 копеек. За неделю дома в шкафчике их набиралось немало, и дети по очереди уносили бутылки в пункты приёма тары. Деньги оставляли себе, поэтому уговаривать их было не нужно, а для Лиды это была ощутимая помощь. У обоих детей в то время начали проявляться еврейские гены: они по собственной инициативе стали познавать юридические аспекты жизни. Например, младший сын одалживал старшему деньги, оформляя это соответствующим договором. Мы узнали об этом только спустя несколько лет.
Я старался привозить им какие-то интересные игрушки из командировок, например, из московского «Детского мира», крупнейшего в стране. В 1985–1986 годах я организовал детям поездки в пионерский лагерь «Артек» в Крыму — им обоим там очень понравилось.
Иногда в мои директорские годы у нас получалось вырваться всей семьёй в отпуск в Карпаты, Крым или на Кавказ. Это были самые счастливые моменты нашей семейной жизни.
О материальном положении нашей семьи в период моего руководства заводом можно судить по следующим двум примерам. Получив квартиру в начале 1982 года, мы осознали, что у нас совсем нет денег на мебель. Я одолжил их тогда у своего друга детства Гедиса Ракиса, который работал на бензоколонке. А в начале 1987 года перед моим уходом с руководящего поста я взял себе талон на самую дешёвую машину и купил «Жигули» ВАЗ-2113. Притом для этого мне снова нужно было брать в долг. Тогда нам помог мой друг Б. Кведаравичус. Так что не могу сказать, что мы так уж разбогатели. Главным моим достоянием была четырёхкомнатная квартира в центре города.
Мой уход с завода «Нуклон»
На пятом году руководства «Нуклоном», в 1987 году, я ощутил, как в Советском Союзе нарастает экономический и политический кризис. Старые и больные первые лица государства (возглавлявшие компартию и правительство) оказались полностью неспособны руководить СССР и тем более вывести его из кризисной ситуации, в которую всё глубже погружалась страна. Из-за ослабления центральной власти в отдельных республиках усилились различные национальные движения, в том числе и за выход из Союза. Попытки заполучить власть перешли в публичную плоскость, например, упорная борьба Б. Ельцина против М. Горбачёва. Всё это сильно отразилось на жизни простых людей. Из магазинов исчезли промышленные и продовольственные товары, полки опустели. Народ не знал, что творится в государстве, и никто не мог растолковать, как и когда в стране настанет порядок. Это было особенно заметно при сравнении качества жизни на Западе и в Союзе — люди делали вывод, что система правления государством и социалистическая экономика СССР потерпели крах, и дальше нужно идти исключительно по капиталистическому западному пути, по возможности разделившись на отдельные государства.
Из последних сил в СССР пробовали наскоком нарастить производство, резко улучшить качество товаров не только для военной промышленности, но и для народного хозяйства. В 1987 году на нашем заводе без согласования со мной была введена государственная приёмка для товаров гражданской продукции. Её требования оказались значительно выше, чем у приёмки военной продукции. В то же время Научный центр отказал нам в необходимом оборудовании для производства и измерения такой продукции или в корректировке производственного плана, при том, что госприёмки для гражданской продукции на его предприятиях в Зеленограде введено не было, и они не почувствовали ударов по выполнению планов. А нашему заводу пришлось днём и ночью работать, чтобы обеспечить себя необходимым измерительным оборудованием. Это давалось очень нелегко.
В октябре 1987 года у меня состоялся разговор с генеральным директором Научного центра Э. Ивановым. Я рассказал ему о трудностях с выполнением плана и отметил, что при такой неуправляемой ситуации продолжать работать директором завода не смогу. В ответ Иванов пригрозил мне исключением из партии, если я уйду со своей должности. Меня это очень зацепило: я сказал, что не он меня принимал в партию и не ему меня из неё исключать. На следующее утро через заместителя директора по кадрам и режиму я подал заявление об уходе с должности директора завода «Нуклон».
В то время у меня очень сильно пошаливало здоровье, повысилось давление, накопилась огромная усталость, побаливало сердце, и периодически я обращался к врачу. Мне рекомендовали сменить работу. После подачи заявления об уходе врачи сразу направили меня на лечение в Вильнюс, а после больницы — в санаторий в Палангу. Через пару месяцев после подачи заявления меня официально освободили от директорской должности.
Я и сегодня считаю, что поступил правильно. Морально это было очень тяжело. Но другого выхода у меня просто не оставалось. Было бы невыносимо наблюдать за разрушением предприятия, которому я отдал 17 самых активных лет своей жизни. Мои предложения по реорганизации завода на отдельные хозрасчётные структурные единицы, как это сделал Шяуляйский телевизионный завод, Научный центр не поддержал. И это было ошибкой. В течение нескольких последующих лет произошёл полный развал и самого Научного центра, и многих его предприятий.
А мне предстояло найти свой новый путь, тем более что жизнь вокруг стала быстро меняться и предлагать новые возможности. Я крайне признателен жене Лиде и моим детям, что в тот сложный момент они меня очень поддержали. Это помогло мне быстрее восстановить силы и вернуться к активной жизни.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЗАВОДА ДО СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Новый этап в работе
Когда я вернулся из санатория в Паланге, почувствовал, что силы вернулись и я могу снова работать. Тем более, что семья наша была уже немаленькой и жить на одну Лидину зарплату мы бы долго не смогли. В то время директором телевизионного завода в Шяуляе был мой хороший знакомый Витаутас Юшкус. Зная о моём уходе с «Нуклона», он предложил мне место заместителя начальника ОТК (отдел технического контроля) на своём предприятии и нормальную зарплату. Его предложение меня полностью устраивало, и в начале 1988 года я приступил к исполнению должностных обязанностей. После управления «Нуклоном» новая работа была для меня не сложной и полностью понятной. Очень выручало, что ещё со времён управления «Нуклоном» я был лично знаком со многими руководителями телевизионного завода, и у нас сложились хорошие отношения. Коллектив службы ОТК принял меня хорошо и всячески помогал решать рабочие вопросы. После «Нуклона» было так непривычно, что на этом предприятии всё решалось тихо и спокойно и не было такого безумного ажиотажа по выполнению плана. В целом этому были свои объяснения: рост производства на «Нуклоне» ежегодно повышался не менее, чем на 20%, а на телевизионном заводе примерно на 2–3%, поэтому и производственный климат, и человеческие отношения на этих предприятиях заметно отличались. Это сразу же ощутили на себе моя жена и дети: если раньше я приезжал домой к полуночи, то теперь выходил вместе с остальными сотрудниками — сразу после окончания рабочего дня. Поначалу это было очень непривычно. Но семья была очень довольна. Особенно радовалась Лида, когда я после работы заезжал за ней на машине и мы вместе ехали домой.
В том же 1988 году мы получили письмо от отца: он сообщал, что написал в Скуодас (откуда их депортировали) по поводу денежной компенсации и никакого ответа не получил. Попросил нас пошевелить их. Созвонившись с сотрудницей мэрии, которая занималась этими делами, мы договорились о встрече и отправились в Скуодас. Я пообещал ей большой телевизор (в то время их нельзя было свободно купить), и она быстро оформила все документы — деньги были переведены на папин счёт. Также сотрудница мэрии сообщила, что можно получить денежную компенсацию и за утраченное имущество, и за потерю дома, в котором Миркесы жили до 1941 года. Но для этого нужно было предоставить описание дома и показания свидетеля. Свидетелем предложила сделать свою свекровь, которая многое помнила о событиях тех лет. Рекомендовала нам поторопиться, так как деньги на подобные выплаты уже заканчивались. Я позвонил отцу и спросил его, в каком доме они жили до депортации. Отец сказал, что якобы был маленький деревянный домик, и больше ничего не мог сказать, так как не помнит — ему в тот момент было только 13 лет. Тогда я сказал отцу, что я знаю, что делать и как поступить. Я купил на своём новом заводе телевизор, и мы снова вернулись в Скуодас. Отдали этой женщине обещанное и сказали, что дом был кирпичный, крыша черепичная, а фундамент из камней, и назвали внушительную квадратуру. Компенсация вышла максимальной, и отец получил эти деньги. Звонил нам, благодарил, сообщил, что его семья немного приоделась, даже предлагал часть денег нам, но мы, естественно, отказались. До депортации папа действительно жил в центре города, в кирпичном двухэтажном доме, на втором этаже слева от входа, что видно по фотографии.
Если на «Нуклоне» регулярно происходило перевооружение производства и постоянно менялось оборудование и технологический процесс, то на телевизионном заводе перемены вводились намного реже и спокойнее. Мне хотелось приложить все свои силы, чтобы быть максимально полезным в своей работе, но это было не так просто. Возможно, на тот момент я просто не знал всей специфики производства телевизоров, и для получения нового опыта требовалось время.
Весной того же года директор телевизионного института при телевизионном заводе В. Петрайтис при участии главных специалистов пригласил меня на собеседование и предложил возглавить крупный технологический отдел. Надо сказать, что телевизионный институт в Шяуляе был ведущим по разработке и производству телевизионной студийной аппаратуры. Например, его продукция прекрасно себя зарекомендовала на летних Олимпийских играх в 1980 году. В институте работали очень хорошие специалисты. А его директор — очень опытный и умный человек — пользовался большим авторитетом не только среди коллег, но и в масштабе всего Союза. Я был о многом наслышан и, не раздумывая, принял предложение о работе. В то время студийная аппаратура была довольно большого размера и с трудом помещалась в служебные автобусы. Естественно, существовала необходимость разработать продукцию меньших габаритов, а значит — изготовить интегральные микросхемы, чтобы заменить ими некоторые громоздкие блоки. Конструкторы института имели представление, какие именно, и знали, где в Союзе уже используются необходимые технологии. Моей первой задачей было определить технологию изготовления интегральных микросхем, подобрать оборудование, пригласить необходимых специалистов и, конечно, оснастить сам производственный участок. Было решено изготовить опытный образец интегральной микросхемы на базе предприятия Министерства радиопромышленности под Ленинградом (в Красном Селе), где мы решили перенять опыт. Я несколько раз ездил в Красное Село и собрал необходимую информацию. Мы подготовили всю документацию, составили список оборудования, разметили планировку производственного помещения с учётом его подключения к электричеству. Но самое главное — я пригласил в институт очень ценных специалистов с «Нуклона», имевших большой опыт в производстве микросхем. К концу 1988 года на базе Красного Села около Петербурга были изготовлены первые образцы, разработанные конструкторами нашего института. По первым данным испытаний они соответствовали всем поставленным требованиям. Вспоминая о тех временах, не могу не отметить, что, как и на телезаводе, в институте была очень дружелюбная атмосфера, которая позволяла спокойно и продуктивно работать. К тому же после окончания рабочего дня я продолжал на машине встречать Лиду с работы.
В начале 1989 года бывший заместитель генерального директора Научного центра по коммерческой части Сергей Анатольевич Лизгунов пригласил меня приехать в Казахстан, где он руководил всей коммерческой деятельностью Байконура. Вместе со мной туда отправились первый секретарь горкома партии города Мажейкяй и директор Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода. Первый секретарь компартии республики Альгирдас Миколас Бразаускас позвонил своему хорошему знакомому, заместителю руководителя Байконура, и мы были очень радушно встречены высшим персоналом, включая С. Лизгунова. Каждого поселили в двухкомнатный номер в гостинице, которая принимала обычно особо важных и дорогих гостей из Союза и из-за рубежа. Нам показали запуск двух космических ракет со спусковой площадки, провели экскурсию по музеям Королёва и Гагарина. А знакомство с огромным многоразовым кораблём «Буран» оставило самые неизгладимые впечатления. Сама местность, где находился Байконур, мне лично совсем не понравилась — от пыли в степи всё имело оранжевый оттенок, и эту пыль мы ощущали просто везде.
Перед отъездом нас отвели в спецмагазин, и я купил Лиде белые зимние сапоги, туфли, перчатки и французские духи. Она была очень довольна. Да и мой рассказ о Байконуре ей тоже понравился.
Итак, у меня появилось свободное время по вечерам после работы, моё здоровье значительно улучшилось, а Горбачёв объявил, что предпринимателям разрешается всё, что не запрещается законами. Неудивительно, что меня начали посещать идеи, связанные с предпринимательством. В то время в СССР появились первые кооперативы, государство оказывало им поддержку в виде посильных налогов и быстрой регистрации. Словом, одним из первых в Литве я создал кооператив, который мог заниматься различной предпринимательской деятельностью. К примеру, повсеместно назрела огромная потребность в компьютерах, а их было очень трудно достать. Конечно, в основном требовались западные компьютеры, но страна нуждалась и в компьютерах советского производства. Благодаря моим связям и опыту использования этой техники на «Нуклоне» мы приняли верное решение — закупить в Зеленограде отдельные узлы компьютеров и организовать их сборку в большом гараже частного дома. Этим занимались несколько человек. На следующем этапе было важно своевременно и выгодно реализовать товар. Я привлёк к этому все свои связи и разработал систему стимулирования сотрудников. Мы занимались этим проектом на протяжении примерно полутора лет, пока в результате всесоюзного кризиса не закрылся сам завод по производству узлов для компьютеров. У всех, кто в Шяуляе занимался подобной гаражной сборкой, существенно улучшилось материальное положение, в том числе и у нашей семьи. Мы даже скопили денег на дальнейшее развитие бизнеса. В первую очередь решили построить и оборудовать мебельную фабрику площадью около 2 000 кв. м в 40 км от Шяуляя (там можно было договориться насчёт участка). Строительство фабрики происходило в условиях «блокады» со стороны Союза: не было никаких стройматериалов, не хватало бензина. Если надо было ехать в наш сад, мы звонили на единственную бензоколонку в городе и спрашивали, есть ли бензин и длинная ли за ним очередь. Но при этом стройка всё же шла полным ходом, так как прораб Антанас Папрецкас, бывший заместитель директора по коммерции мебельной фабрики города Шяуляя, был фантастически пробивным и настырным человеком. А мы параллельно искали станки по всему Союзу, привозили даже с Дальнего Востока. Фабрику построили за два с половиной года, и в 1992-м она заработала.
Я невольно уделял всё больше времени вопросам своего бизнеса, и вскоре мне стало неловко перед руководством телевизионного института, что занимаюсь другим делом, несмотря на то, что я заранее открыто об этом предупреждал. А с другой стороны, к тому моменту кризис добрался и до института. Производство интегральных микросхем застопорилось из-за отсутствия необходимых площадей (около 200 кв. м). Я предлагал разные варианты, но решить вопрос всё же не удалось. Было очень жаль покидать институт, так как сама работа и коллектив очень мне нравились, но поступить иначе я тогда не мог: дела бизнеса требовали полной самоотдачи. К тому же, надо признать, заниматься своим делом мне очень понравилось, я чувствовал, что у меня всё получится. Возможно, и здесь сыграла свою роль еврейская кровь, ведь евреи прирождённые бизнесмены, а я занялся предпринимательством, не имея тогда ни опыта, ни знаний. Так в 1990 году закончился период моего труда на государственных предприятиях, и я полностью переключился на собственный бизнес.
Рассказ Лиды о жизни в период бизнеса Витаса
Когда я работала в домостроительном комбинате, наш проектный отдел был на четвёртом этаже. Из окон через дорогу виднелась территория мясокомбината, огороженная высокой кирпичной стеной. Я частенько видела, как с наружной стороны приходит один человек, затем с внутренней появляется другой, они перекликаются — и пакет с мясом перебрасывается через ограду. Люди решали вопросы пропитания как могли. Иногда нам в отдел звонили из медпункта, где работал неофициальный «агент» мясокомбината, и приглашали прийти за сервелатом — он был свежайший, ещё даже мягкий, сначала стоил 9 руб., потом 10–11 руб. Дети очень быстро его съедали. В общем, в том медпункте пахло не лекарствами, а копчёностями. А ещё, бывало, звонили из нашего вычислительного центра — предлагали свежую свинину. Какая-никакая, но это была помощь.
Когда папа Витаса приезжал к нам в гости, то заглядывал в хозяйственные магазины и покупал всякие шурупчики, скобочки, уголочки. Рассказывал, что сам делает мебель у себя дома, например, двухэтажную кровать для двойняшек. Наш младший сын Виргис очень интересовался конструированием, ходил в разные кружки и вечно дома что-то клеил, сверлил, строгал… Как-то, когда ему было всего семь лет, сам собрал платяной шкаф, пока мы были на работе. Витас же работал только языком и пишущей ручкой. Так что, думаю, мастерская жилка передалась Виргису именно от Моисея Давидовича.
Когда я приходила с работы домой, в гостиной почти всегда были люди. Вначале частенько присутствовал некто Аркадий Дуб, и слышно было, как они с Витасом говорят про какие-то грибы, ягоды, гусиную печёнку, ещё бог весть что — якобы продавать за границу. Хотели хоть за что-нибудь зацепиться. А позже пошли более серьёзные разговоры, и людей стало больше. Я приходила домой, считала, сколько пар обуви в коридоре, столько чашек кофе и варила (временами доходило до семи). Когда шоколадные конфеты исчезли с прилавков — подавала карамельки.
В 1990 году началась моя работа в коммерческих фирмах Витаса. Я стала инспектором по кадрам. Фирм было несколько, денег на жизнь хватало, при этом я управлялась со всеми обязанностями за полдня.
Параллельно Витас создал индивидуальное предприятие, где я вела бухгалтерию, и в целом эти обязанности никаких сложностей не вызывали. При этом многие в то время вообще не могли найти себе работу в Шяуляе — безработица была жуткая. На улицах появились первые бомжи — вчерашние рабочие с фабрик и заводов. В магазинах исчезли промышленные товары. Открылись комиссионки, куда люди приносили свои личные вещи, чтобы продать их и выручить хоть какие-то деньги на жизнь. Какие-то предметы первой необходимости продавались на рынке у частников. Некоторые новые и качественные товары можно было купить с рук. Рассчитывались и рублями, и долларами. Однажды мы съездили в Вильнюс на «толкучку», где торговали в основном новыми и дефицитными в то время товарами, и там немного закупились: бельгийское демисезонное пальто для меня и кожаную куртку для Витаса, который по возвращении домой тут же отдал её старшему сыну.
Витас создал несколько предприятий, и после того, как назначал директора и подыскивал работников, оставлял фирму без контроля, ему просто были не интересны дальнейшие процессы, что в конце концов его и подвело. В 1991 году он организовал инвестиционное закрытое акционерное общество, набрал сотрудников и оставил их в покое. Он всегда очень доверял людям. Через два года обнаружились не подтверждённые документами крупные расходы предприятия, которые ушли неизвестно куда. Директор и бухгалтер не могли предоставить инвесторам никаких внятных объяснений. На них обоих, а также на самого Витаса как учредителя, было заведено уголовное дело. Мой муж бросил все дела и начал сам досконально разбираться в делах предприятия. Это стоило нашей семье много нервов и здоровья. Огромные суммы ушли на адвокатов и всевозможные юридические консультации. Витас накупил гору юридических книг для качественной защиты в суде. Адвокат его был опытным, но по большей части Витас сам копался в этом деле и спустя 10 лет не только доказал свою невиновность, но и добился оправдания для директора с бухгалтером. Если описывать все подробности этой истории, вполне может получиться ещё одна книга, поэтому не буду углубляться здесь в детали, главное, что всё в итоге закончилось благополучно. Но все эти судебные тяжбы не прошли даром: в 2000 году у Витаса дважды случились инфаркты. Тяжело даже вспоминать. По решению первого судебного разбирательства ему пришлось бы сидеть в тюрьме пять с половиной лет. Римас всё приговаривал, мол, мы с мамой за такое дело давно бы из тюрьмы уже вышли, а ты всё сидишь над своими бумагами и продолжаешь воевать за правду. Но Витас был непреклонен: «В Литве ни один еврей не сидел в тюрьме, и я не буду, тем более если я ни в чём не виноват».
Один из представителей литовской власти давал указания судьям строго наказывать бизнесменов всех предприятий, оказавшихся в схожем положении, невзирая на степень и вообще наличие реальной вины. И чтобы не подвергать риску свою карьеру, судьи старались избегать оправдательных решений, перенося такую возможность только на вышестоящие инстанции. Поэтому защититься было практически невозможно. И, на мой взгляд, то, как это удалось Витасу, во многом произошло благодаря его еврейской крови.
В те же годы он также организовал фирму, которая за приватизационные чеки (ваучеры) занималась приватизацией государственных предприятий. Каждый гражданин получил от государства определённое количество этих ваучеров, оно было одинаковым для всех. Кто имел государственные квартиры, часть чеков использовал на их приватизацию, немного доплатив наличными деньгами. А если человек не знал, что делать с чеками, — их скупали упомянутые предприятия. Витас покупал эти чеки у своего же предприятия и впоследствии использовал для приватизации других компаний. Таким образом, он стал собственником части бывшего кинотеатра, части большого здания проектного института в центре города и некоторых других промышленных предприятий Литвы.
В то время были очень популярны казино. Закон был к ним лоялен, и Витас с компаньонами тоже открыли казино — в центре города, в здании бывшего кинотеатра, которое они приватизировали. Вечерами и ночами Римас работал там крупье. А на мебельной фабрике производилось оборудование для казино — оно продавалось в Литве и за границей.
В марте 1992 года, после долгой подготовки и поиска учредителей, Витас зарегистрировал собственный банк. Через пару лет я перешла туда работать, сначала инспектором по кадрам, затем контролёром. Работа мне в целом нравилась, я сама по себе неприхотливая, в отличие от мужа — ему постоянно нужно что-то организовать, делать, он круглые сутки полон энергии и не может сидеть на месте, что иногда нелегко для такой «подкаблучницы», как я. Если Витас что решил, его не переубедишь, это упрямый и жёсткий человек, часто признающий лишь собственную правду и считающий себя авторитетом.
Со временем банк, как и многие другие, начал «хромать»: кредиторы Литвы перестали расплачиваться, а Литовский центральный банк требовал увеличения капитала банков. Несколько финансовых организаций объявили банкротами, но Витасу с большим трудом удалось передать свою организацию людям, которые влили необходимый капитал и вернули банк к жизни. Когда началась централизация банка, после десяти лет работы я перешла в другой проект Витаса — Шяуляйский дом предпринимателей, который и по сей день работает под руководством наших детей.
От 90-х до наших дней
Отмечу несколько моментов, которые Лида не упомянула. В 1993 году в Литве, в Каунасе, бизнесмен Арвидас Сташайтис создал Республиканскую ассоциацию, куда вошла и руководимая мною Ассоциация Шяуляйского края (правда, эти структуры прекратили своё существование примерно с 2000 года). Это помогло мне, как и другим предпринимателям, познакомиться, оказывать друг другу помощь, развивать свои предприятия и достигать успехов. Вообще тогда было весьма непросто заниматься бизнесом в Литве. Сегодня это, наверное, сложно даже представить. Во-первых, активизировалась мафия: практически у каждого они требовали кусок прибыли, якобы предлагая за это «помощь» в защите от других криминальных структур. Во-вторых, государство никак не защищало бизнесменов от подобных вымогательств или нападений, и часто силовые структуры сами сотрудничали с мафиози. При этом судебная система подвергалась политическому нажиму со стороны властей, часто выставляла предпринимателей в неприглядном свете перед населением и наказывала невиновных. Я лично был знаком с теми, кто был несправедливо осуждён и сидел в тюрьме, кто был убит мафией или покончил с собой, обанкротился, потерял семью или просто закрыл свой бизнес — таких случаев действительно было немало. И не каждый был готов решиться на открытие собственного бизнеса в период 90-х. Полагаю, мне очень повезло остаться живым и сохранить свою семью. Я потерял кое-что в бизнесе, но не всё. Правда, подорвал здоровье, это да. Нужно ли было вообще заниматься бизнесом в то смутное время? Я уверен, что да, это было правильное решение, невзирая на все риски. Это было безумно интересно, я реализовывал свои природные способности и достигал целей, активно участвовал в новых экономических процессах, и во время тотальной безработицы и кризиса моя семья была хорошо обеспечена.
После двух инфарктов мне назначили инвалидность второй группы, и я стал получать пенсию. Было нелегко принять, что я стал инвалидом, но что поделаешь. Силы пошли на убыль, и я не мог больше работать, как раньше. Поэтому принял решение сосредоточиться на одной своей фирме, которая занималась недвижимостью, — я в своё время эту фирму организовал, приватизировав её площади. Они были внушительными: 1 700 кв. м в Шяуляе и в Вильнюсе сдавались в аренду для бюро. Последней работой, которой я дополнительно занялся в этой компании, была торговля фьючерсами на мировом рынке, что требовало большой ответственности. Я старался не только заработать деньги, но и более глубоко понять устройство мировой экономики, её зависимость от значимых мировых событий. Это было очень интересно.
В деньгах мы особенно не выиграли, но и я сам, и мои сотрудники многое изменили в своих представлениях о мировой экономике. Последней моей коммерческой сделкой в этом предприятии была закупка из Тайваня современных (по тем меркам) массажных кресел и массажных ковриков. Правда, пришлось приложить много сил для реализации этой продукции, но здесь вновь помогли мои связи. Сделка оказалась прибыльной, и мне хватило на капитальный ремонт моих офисных помещений в Шяуляе. Позже старший сын провёл аналогичную закупку товаров из Тайваня, используя этот опыт, и так же успешно их реализовал.
В какой-то момент я осознал, что ввиду состояния здоровья могу трудиться только по полдня. И вскоре, где-то в 2010 году, совсем ушёл с работы, оставив руководство фирмой своей невестке Ирене и сыновьям. К тому моменту официально я был уже на пенсии. Наряду с пенсией от государства я стал получать небольшие дополнительные деньги согласно удостоверению ссыльного, которое получил 26 сентября 2000 года. «Согласно закона Литвы от 30 июня 1997 г. № 8-342, статье 5, пункта 1.5 Витаутас Йонас Миркес признаётся потерпевшим лицом от оккупации 1939–1990 годов. Согласно закона ему выдаётся удостоверение ссыльного под № 035735. Удостоверение выдано 26 сентября 2000 г.».
Символически я и сейчас работаю, контролирую деятельность фирмы. Результатом работы Ирены и наших сыновей мы с Лидой очень довольны. А жизнь пенсионеров оказалась не такой уж плохой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
САВИЦКАСЫ
Жизнь Савицкасов в конце XIX —начале XX века
Мой прадед Юлиус Савицкис родился в 1840 году, а прабабушка Савицкене Элена (Елена) — в 1869-м. В то время в Каунасе находился Союз дворян. В своих заметках Бируте упоминает, что видела в детстве удостоверение о дворянстве рода Савицкасов, но уточняет, что, может быть, ей это и померещилось. На этом документе внизу был семейный герб Савицкасов. Как утверждают родственники, это удостоверение Костас Савицкас отдал своему старшему сыну Витаутасу. После кончины Витаутаса Бируте обратилась к его жене Стефе с просьбой показать бумагу, но та сказала, что у неё такой нет. Возможно, это удостоверение перешло к Раймутису, сыну Витаутаса, но и его к тому моменту уже не было в живых. А может быть, этого документа и вовсе не существовало.
Когда мне было 15 лет, я путешествовал на подаренном дедушкой Давидом велосипеде в компании одноклассников по юго-западу Литвы. Появилось немного свободного времени, и я предложил своему другу вместе заехать в Малдунай, к дедушкиному брату Антанасу Савицкасу. Это был единственный раз, когда я встречался с ним. Антанас очень обрадовался моему приезду, так как я сын Людвики, его племянницы. Я до сих пор помню, как в тот день впервые попробовал тёплый белый хлеб, политый свежевыкачанным мёдом. После обеда Антанас дал нам с собой разные гостинцы для остальных школьных товарищей. Жаль, что в то время у меня не было фотоаппарата. Эта единственная встреча с дедушкиным братом оставила у меня очень яркое впечатление. Вернувшись домой в Кретингу, я рассказал о ней дедушке Костасу, и он очень обрадовался, что мы с Антанасом повидались.
Спустя много лет, 11 ноября 2004 года, моя жена Лида предложила вместе съездить в Малдунай, где когда-то находилась усадьба Савицкасов. Мы навестили живущего по соседству фермера Зама Йозаса, на тот момент 73-летнего. Замас рассказал о Савицкасах: их хозяйство было большим (43 га), образцовым, содержалось в порядке, располагалось около большой горы в Малдунае. Эту возвышенность прозвали горой Савицкасов. В семье родителей Костаса, Юлионаса (1868–1939) и Елены (1871–1950), было четверо сыновей и три дочери. Сын Улесюс после ссылки в Сибирь не получил разрешения вернуться в Малдунай и уехал в Калининградскую область, где и умер. Одна дочка, Амелия Янкиене, жила около Крижкальниса. Другой сын, Антанас (1898 г. р.), остался жить в Малдунае, в усадьбе родителей. Он окончил учёбу в Каунасе, стал учителем, а потом и директором школы в Биётай. На работу до школы летом он ездил на велосипеде немецкой марки, а зимой — на лыжах. Его жена работала агрономом, детей у них не было. Депортации Антанас смог избежать, так как поддерживал хорошие отношения со старостой, который в числе прочих регулировал процесс высылки. У Антанаса было больное сердце, и в 1970 году он умер в Гирдишкяе (район Шилале). На кладбище в Гирдишкяе, недалеко от скульптуры Святой Марии, есть могила, где захоронены родители моего дедушки (Юлионас и Елена Савицкасы) и брат моего дедушки Антанас Савицкас. Чтобы почтить их память, мы возложили там цветы и зажгли свечи.
Затем мы навестили госпожу Ловейкене в деревне Биётай. Антанас Савицкас руководил музеем «Баубляй» (в переводе с литовского — «два выскобленных дуба»). После него за музеем присматривал Алексас Бардаускас (адъютант дедушки Костаса во время войны). Алексаса сослали в Сибирь, поскольку он был старостой. Через два года он вернулся, так как повредил позвоночник и на всю жизнь остался хромым. Музеем стала заниматься его дочь Ловейкене, бывшая ученицей Антанаса Савицкаса, который очень дружил с её отцом, — «подымали вместе рюмки». Алексас Бардаускас умер в 1981 году.
Зашли к Бронисловасу Панелайтису в деревне Моцкайчяй. Он родился в 1927 году, в довоенные годы служил наёмным работником в доме Савицкасов и в молодости даже был симпатией моей тёти Регины Вайчайтиене (Савицкайте). Бронислав рассказал, что после того, как умер мой прадед Юлионас Савицкас (1867–1939), его жена купила 14 га земли в Моцкайчяе, потому что одна из дочерей, Стасе, вышла замуж за Станкевичуса, фермера из тех мест. В той деревне было два поместья, и в них жило примерно 50 человек. К сожалению, в советские годы это поместье полностью исчезло: на его территории поселились неизвестные люди, использовавшие для растопки брёвна бывших домов. А в 1975 году сгорел и основной дом, в котором жили Савицкасы и в котором родился я. Бронисловас рассказал, что мой дедушка Костас Савицкас до Второй мировой войны был начальником пограничной заставы, офицером. Он вспомнил и тот факт, что дедушкины дочки Людвика, Регина и Марите после бегства из России в Литву уехали в Каунас, купили там домик, и Регина начала учиться на медсестру. Там их поймали и опять вывезли в Россию. В то же время Бронисловас Панелайтис не помнит факта моего рождения у Людвики, моей мамы, в Моцкайчяе, но помнит, что у неё был муж Мозе Миркес. Когда мы собрались посетить место моего рождения, Бронисловас указал нам точные ориентиры.
Землемер из местечка Упинас, куда мы заехали во время этой поездки, дал нам карту — план, на котором отмечен тот самый участок земли площадью 15 га, в довоенное время купленный Еленой Савицкене. Ранее там стоял дом, в котором 22 января 1947 года родился я.
Костас Савицкас
Исследуя документы моего дедушки, я задумался, какова его настоящая фамилия: Савицкис или Савицкас? Его предки фигурируют в документах и рассказах под обеими фамилиями. Мужская линия со стороны отца имела чисто польские корни — мой дедушка был настоящим поляком и до конца своей жизни свободно разговаривал на польском. Можно было бы предположить, что изначально фамилия звучала как «Савицкий», что при жизни в Литве постепенно превратилось в устной и письменной в «Савицкис», а затем и «Савицкас». Во время ссылки при оформлении соответствующих документов не особенно следили за корректностью нетипичных для России имён и фамилий, поэтому иногда в бумагах проскальзывала и фамилия «Савицкис».
По моей просьбе в Государственном историческом архиве Литвы 21 февраля 2021 года мне выдали архивную справку о рождении дедушки. В ней указано: «В архивном фонде Тельшяйской епископской курии в книге метрик Римской католической церкви местечка Гирдишкес вписано на русском языке, что 18 апреля 1894 года был окрещён от Юлиана и Елены (до замужества Каждайлевич) сын Савицкас по имени Константин, родившийся 15 апреля 1894 года в деревне Мандунях (Малдунай)».
Моя сестра Бируте Каченайте (Шубина) записала некоторые воспоминания дедушки примерно в 1985 году: он подтвердил, что он, Костас Савицкас, родился 15 апреля 1894 года в деревне Малдунай Скаудвильской волости Таурагского уезда. Из его рассказов моей сестре следует, что с малых лет он жил со своими родителями в деревне Моцкайчяй. В 1907 году окончил начальную школу, а уже с 1907 года в возрасте 13 лет работал в семейном сельском хозяйстве вместе со своим отцом. С 1910 по 1913 год учился в сельскохозяйственной школе около Расейняя. Он обещал и после учёбы заниматься сельским хозяйством: у родителей было 15 га земли, две лошади, три коровы, две свиньи, сельский инвентарь и дом с надворными постройками. Но жизнь сложилась иначе.
В школе он поссорился с кем-то из преподавателей и решил уйти в армию. Его приняли в армейские ряды в Шяуляе и послали учиться на прапорщика в Полтаву. Обучение в школе прапорщиков заняло два с половиной года, после чего дедушку отправили на фронт — шла Первая мировая война. По рассказам дедушки, с 1915 по 1916 год он воевал в рядах российской армии в Карпатах и Польше в должности младшего командира, видел самого царя. В списке офицеров литовской армии, который находится в библиотеке Национального музея Литвы, указано, что с февраля 1915 года по 26 августа 1916 года мой дедушка служил в российской армии рядовым и подпрапорщиком. В 1916 году попал в плен к немцам и был отправлен в Австрию, где пробыл почти три года, вплоть до февраля 1919-го. О своей жизни в плену в Австрии дедушка рассказывал с юмором, как о жизни на курорте. Например, о том, что их очень хорошо кормили, и он даже ел пищащих устриц, а ещё о том, что пленных не заставляли работать и руководство лагеря обращалось с ними по-человечески. Я ни разу не слышал от него никаких жалоб по поводу пребывания в плену. В 1917 году в России началась революция, и через Германию дедушка вернулся из Австрии в Литву.
В конце 2021 года мой двоюродный брат Витаутас Савицкис (монах брат Йокубас) прислал мне важный и интересный материал, полученный им в библиотеке Литовского национального музея. Он представляет собой список офицеров литовской армии, в котором отмечено, кем и в какие годы эти офицеры служили до установления советской власти в Литве в 1940-м, а также сказано об их дальнейшей судьбе. В 7-м томе этого списка с 1918 по 1953 год можно прочесть в том числе и о судьбе моего дедушки Костаса Савицкаса.
На протяжении всей жизни дедушка был очень стройным, аккуратно одевался, постоянно курил трубку с махоркой. Никогда не повышал голоса, выглядел спокойным и интеллигентным. Словом, настоящий офицер. Очень любил играть с внуками. Дети дёргали его за бородку, а дедушка не сердился, даже радовался. Когда мне было лет 13–14, он общался со мной почти как со взрослым, рассказывал о своей жизни и о разных исторических событиях. Дедушка воспитывал меня на своём примере и примере других людей — учил, как жить в этом мире. Всегда подходил к любым жизненным вопросам рассудительно и с юмором.
Я до сих пор помню анекдот, который он рассказывал как реальную историю, произошедшую в городе Таураге:
Несовершеннолетние девушка и парень сильно влюбились друг в друга, попросили своих родителей, чтобы те разрешили им жить вместе. Родители были категорически против. Тогда влюблённые решили покончить с собой, отравиться. Пошли в аптеку и попросили продать им отраву. Аптекарь их понял и продал бутылочку „«отравы“.». Они вернулись в какой-то из родительских домов, закрыли дверь, выбросили ключ через окно верхнего этажа. Выпили зелье аптекаря, крепко обнялись и легли ждать смерти. Кто же знал, что аптекарь продал им слабительное. Когда оно сработало, бедные дети метались в разных углах комнаты, пытаясь справить нужду. После этого все в Таураге узнали, почему та горячая любовь внезапно прошла.
Дедушка очень интересовался историей своего рода, а также Литвы, Польши и других стран. Любил читать книги, особенно исторические. О нём даже упоминали в местной газете: в статье говорилось, что Костас Савицкас — самый читающий человек в Кретингской библиотеке. Он смог и мне привить интерес к чтению газет и книг: однажды взял меня с собой и тоже зарегистрировал в библиотеке. Это стало одним из самых значимых событий в моей жизни: я вырос заядлым книголюбом.
Он верил в бога и каждую неделю ходил в церковь. Ещё я помню, как он настраивал радио и слушал передачи из России и Америки. Ближе к девяноста годам у него очень ослаб слух, и дедушка с досадой сетовал, что не может больше слушать новости по радио. Даже начал говорить, что жизнь стала неинтересной и пора ему уходить в другой мир. Когда-то любил читать российскую газету «Правда», но с ухудшением зрения пришлось отказаться и от этого. Однако в наших разговорах по-прежнему расспрашивал меня о ситуации в мире как политической, так и экономической.
С моей будущей бабушкой, Амелией, он познакомился в 1917 году в Расейняе. Они создали семью, со временем перебрались в Шяуляй, далее в Паневежис, а затем почти 20 лет прожили в Таураге. Именно оттуда в 1941 году их и сослали (депортировали) в Россию. Вернуться в Литву они смогли лишь 15 августа 1957 года.
Амелия Савицкене (Бернауер)
Моя бабушка со стороны матери Эмилия (Амелия) в девичестве носила фамилию Бернауер. Её предком был французский военный, дворянин, который после войны 1812 года остался в Литве. Поэтому я хвастаюсь, что в моих жилах текут две самые главные крови: еврейская, с которой я приобрёл ценные качества этого народа (логическое мышление, стремление к образованию, хватка в бизнесе), и французская, благодаря которой в моём характере много жизнерадостности, чувства красоты и любви к жизни. О матери Амелии известно лишь, что она была трижды замужем: за Петкявичусом, Валаткявичусом и Бернауером.
Архивная справка о рождении моей бабушки со стороны моей матери, Амелии Савицкене, Мечислово, подготовленная Отделом гражданской метрикации г. Кретинги, была выдана Центральным государственным историческим архивом Лит. ССР от 7.06.1989 NR. 42-Б. В документах архивного фонда № 669 («Тельшевская римско-католическая духовная консистория») имеется запись о том, что 3 апреля 1894 года в Таурагенском р-к приходском костёле был окрещён ребенок по имени Амелия (Эмилия), дочь дворян Мечислава и Ванды, урождённых Петкевичей, Бернауфов (Бернауер), родившаяся 27 марта 1894 года в местечке Таурогене (городе Таураге).
Согласно свидетельству о заключении брака гражданин Константинас Савицкас, Юлиаус (в возрасте 25 лет) и гражданка Эмилия Бернауер, Мечислово (22 года) заключили брак 6 августа 1919 года в отделе метрикации города Расейняй. После заключения брака присвоены следующие фамилии: у мужа осталась фамилия Савицкас, а жена стала Савицкене.
Семья Костаса и Амелии до и после ареста
Так как Савицкасам приходилось часто менять место жительства в Литве (в связи со службой дедушки), в доме были только самые необходимые предметы мебели и домашней утвари. Это прослеживается и в описи имущества во время ареста в 1941 году: две металлические кровати, деревянный шкаф, деревянный стол и несколько стульев. Дедушка говорил, что раньше они жили беднее, чем при советской власти: после ссылки, уже в 1970–1980 годах, у них был небольшой кирпичный дом с земельным участком в Кретинге, более-менее нормальная пенсия, вся необходимая мебель… В общем, дедушка с бабушкой были довольны своей жизнью после возвращения в Литву. Иногда они шутили, что дедушка, хоть и считался до ссылки дворянином, из-за бедности называл себя «голым дворянином».
До 1941 года Савицкасы жили в основном в деревне Моцкайчяй, возделывая землю, чтобы как‑то прокормиться. Однако непосредственно накануне ссылки дедушкина семья переехала в город Таураге. Все годы жизни до этого бабушка Амелия Савицкене занималась только семьёй: из семерых детей двое умерли после рождения, и она растила пятерых. В центре Таураге бабушка открыла собственный буфет, в котором торговала своей домашней выпечкой, пополняя семейный бюджет.
После оккупации Литвы Советским Союзом летом 1940 года Костас Савицкас был арестован в Таураге 14 июня 1941 года и вывезен в лагерь Решоты Нижнеингашского района Красноярского края. Его семью сослали тогда же в посёлок Слободский рейд Сыктывдинского района Республики Коми. 12 сентября 1942 года Особым совещанием НКВД СССР Костас Савицкас был осуждён на 10 лет лишения свободы. С 17 января 1951 года находился в ссылке в Красноярском крае, в Воркуте в Коми.
В справке указано, что они были сосланы в Коми АССР в город Сыктывкар вплоть до 8 ноября 1946 года, за исключением Витаутаса Савицкаса: тот жил в спецпоселении только до 25 декабря 1942 года. Людвика Савицкайте была повторно сослана 27 января 1949 года до 5 июня 1957 года. На основании указа Президиума Верховного Совета Литовской ССР от 21 октября 1988 года все вышеуказанные члены семьи Савицкасов реабилитированы.
Моя жена Лида вспоминает: «В 1970-х годах мы с мужем периодически ездили в Кретингу, общались с дедушкой и бабушкой. Дедушка Костас очень живо разговаривал со мной на чистом русском, называл меня Лидией Михайловной, рассказывал о красоте польских девушек, которых встречал во время войны, о том, как воевал в Альпах и Карпатах, как попал в плен к немцам и был отправлен в Австрию, где ел живых устриц. Ещё он учил нас копить деньги: спросил, сколько мы зарабатываем, я назвала небольшую сумму, он резюмировал, что на половину можно жить, а половину нужно отложить впрок. Он очень хорошо выглядел для своих лет, был худощавым и стройным, наверное, потому, что бывший военный. Дедушка произвёл на меня очень тёплое впечатление. Бабушка в то время хлопотала на кухне, готовила нам вкусное угощение. Было видно, что она очень рада нашему приезду. В наши разговоры с дедушкой не встревала, но внимательно слушала. В доме всегда царили чистота и порядок, а хозяева были всегда опрятно одеты».
Встреча двух дедушек в Краслаге
Дедушка Костас, единственный из всех Савицкасов, был лично знаком с другим моим дедушкой, Давидом Миркесом. Благодаря их связи я получал из Сибири ценные подарки, которые мне очень пригодились в школьные годы: взрослый велосипед, наручные часы, фотоаппарат и многое другое. Дедушка Костас постоянно рассказывал, о чём ему пишет из Красноярского края Давид Миркес.
К сожалению, так и осталось неизвестным, когда и каким образом двое моих дедушек встретились и познакомились в заключении. Но факт остаётся фактом. Новость о моём рождении сделала их отношения родственными и близкими: теперь у них появился общий первый внук. Как рассказывал мне дедушка Костас, в лагере ему очень помог именно Давид Миркес: благодаря своему обширному аптекарскому опыту со временем он устроился в медицинскую службу лагеря и впоследствии помог найти более лёгкую работу, получить необходимые лекарства и улучшенное питание. После освобождения они жили в разных концах СССР, а потом и в разных странах, но при этом продолжали поддерживать связь. В своих письмах дедушка Давид обращается к дедушке Костасу словами «Дорогой мой друг».
Мой двоюродный брат Витаутас Савицкас (монах брат Йокубас) передал мне очерк литовского писателя Римвидаса Раценаса Rešotų aidai («Эхо Решот»), и этот текст подтверждает, что в Решотах, где находился исправительно-трудовой лагерь, одновременно отбывали срок оба моих дедушки: по линии моей матери Людвики Савицкайте — её отец Костас Савицкас, а по линии отца Моисея Миркеса — его отец Самуэлис Давидас Миркес. Оба попали в лагерь как главы семей, будучи обвинены в больших «преступлениях».
<…>
Дети Костаса и Амелии
Самый старший, Витаутас Савицкас, родился в 1920 году. Дядя Витаутас был очень умным и интеллигентным человеком. В нашей семье рассказывали, что в период депортации из всех родственников только ему удалось избежать ссылки в 1942 году, так как он ушёл добровольцем на фронт и стал офицером Красной армии. Это решение помогло ему и в будущей карьере. После войны его назначили директором школы-интерната в Клайпеде. Когда мы вернулись из России в Литву, я, чтобы научиться читать и писать по-литовски, какое-то время жил у него в этом интернате. Позже дядя Витаутас стал директором техникума. Он обладал большим авторитетом в разных кругах клайпедского общества. Используя связи, он помог многим Савицкасам вернуться из России в Литву, найти жильё и устроиться на работу. Принимая во внимание его добровольный уход на фронт, руководящие органы Советской Литвы сделали исключение для всей семьи Савицкасов: им не только сократили срок ссылки, но и разрешили вернуться на постоянное жительство в Литву. У Витаутаса и его жены Стефы родилось двое сыновей — Раймутис и Витаутас. Раймутис погиб, спасая тонущего русского парня, а Витаутас сейчас служит монахом в монастыре недалеко от Шяуляя.
Имеется публикация исследования Натали Муан, сотрудника французского Национального центра научных исследований и центра по изучению России. В своей работе автор отмечает, что с самого начала Великой Отечественной войны боеспособным мужчинам позволялось покидать спецпоселения, чтобы вступить в ряды Красной армии. Местные власти ходатайствовали об отмене ссылки таким добровольцам, для чего, начиная с 1940 года, руководящие органы СССР издали ряд соответствующих указов. Под эти указы попал и мой дядя Витаутас Савицкиас, который был освобождён из ссылки в 1942 году. После освобождения из ссылки он сначала служил в стройбате Красной армии, а к концу войны дослужился до звания политрука-комиссара. Статья опубликована в последнем номере журнала «Неприкосновенный запас» (2005, № 4/42).
Младший брат Владас, родившийся в 1924 году, вместе с семьёй был сослан в город Сыктывкар, где окончил педагогический институт по специальности «английский язык». Вернувшись после ссылки в Литву, жил и работал учителем в школе в городе Жагаре. С помощью старшего брата устроился преподавателем английского языка в техникум, в котором Витаутас был директором. У Владаса и его жены Гене родились два сына — Арунас и Альгис. Оба стали аптекарями, работали в Клайпеде.
Старшая из сестёр, Людвика, моя мама, родилась в 1925 году. Кроме меня, у неё была дочка, моя сестра Бируте. Выйдя в Воркуте замуж за моего отчима, Йонаса Каченаса, мама поменяла фамилию на Каченене. В Кретинге после ссылки она работала в кулинарии, позже на лисоферме. Отчим был сантехником на коммунальном предприятии.
Средняя сестра, Регина, родившаяся в 1927 году, вышла замуж в Воркуте за ссыльного Петраса Вайчайтиса, стала Вайчайтене. У них родились две дочки — Данголе и Ируте. Регина работала медсестрой в больнице. Её муж был очень способным и талантливым человеком, дослужился до главного инженера строительного предприятия в Клайпеде. Считался одним из лучших специалистов в своей области. На краю Клайпеды построил своими силами красивый, как вокруг говорили — «сказочный», домик. На пенсии занялся народным ремеслом, начал писать картины, которые пользовались большим спросом. Ему было присвоено звание народного умельца Литвы.
Младшая сестра, Марите, родившаяся в 1929 году, тоже вышла замуж в Воркуте за ссыльного, Степонаса Данишаускаса, сменила фамилию на Данишаускиене. У них родились сын Альгимантас и дочка Люда. Марите работала в кулинарии в центре Кретинги. Так как вместе с семьёй она жила в доме бабушки и дедушки, то отдала много сил, присматривая за стариками в последние годы их жизни. Муж Марите Степонас был очень хорошим столяром на предприятии, параллельно брал частные заказы, чтобы заработать для семьи побольше денег. В жизни он был весёлым человеком, замечательно играл на гармошке, пел песни.
Я хорошо помню, что родственники с маминой стороны тепло относились к русскому народу и никогда не винили его в той вынужденной ссылке. Документы подтверждают, что депортация коснулась не только литовцев и других народов СССР, но также множества самих русских. Мои родственники рассказывали много хорошего о русских людях, с которыми им довелось познакомиться во время ссылки. Они отмечали их душевность и простоту в общении, умение радоваться даже в трудные времена и готовность всегда прийти на помощь. В нашей семье даже после возвращения в Литву часто пели русские песни, в том числе патриотические, народные и военные. Особенно красиво выделялся голос моей матери, которому гармонично вторил голос её сестры Регины.
Когда разговор шёл о русских, то всегда подчёркивались их положительные качества. Но совсем другим было отношение к руководству страны, в первую очередь к Сталину. В разговорах сразу появлялись сердитые и злые ноты, и кто-нибудь пытался этот разговор остановить, приглушить — чтобы посторонние не услышали лишнего. Страх перед Сталиным и его сподвижниками долго витал над нашей семьёй.
И ещё вот что я заметил: очень странно, но те, кто остались в Литве и не были сосланы, выражали намного больше недовольства советским строем и русскими людьми, чем те, кто пережил депортацию.
Людвика Гражина Савицкайте
Я сохранил копию свидетельства о рождении моей матери от 30 июля 1980 года, где указано, что она родилась 18 ноября 1925 года в городе Таураге, в Литве. Её родители — Костас Савицкас, мать — Амелия (Эмилия) Бернауерите (Савицкиене).
Когда мамину семью депортировали, ей было 16 лет. Она начала трудиться на лесосплаве простой работницей и вскоре стала бригадиром: руководила разгрузкой, сортировкой и сплавом брёвен. По своему характеру она была очень похожа на свою мать, мою бабушку: весьма требовательная, даже грубоватая, если требовалось срочно и качественно решить какой-то вопрос. Поэтому не случайно её довольно быстро назначили руководить сложными работами.
В той самой ссылке она познакомилась с Моисеем Миркесом, который стал моим отцом. Они вместе трудились в бригаде. По словам отца, мама была замечательным энергичным руководителем, её часто хвалили за хорошие результаты. В дальнейшем характер матери остался таким же, как и в молодости. Она всегда обращала внимание на тех, кто бездельничал, и если это было общее дело, то требовала, чтобы работа качественно и быстро выполнялась.
Для меня и сегодня остаётся невыясненным до конца — был ли зарегистрирован в конце 1946 года брак между моими родителями? На каком основании выданные в Литве метрики о моём рождении содержали данные моего отца? Порывшись в своей памяти, вспоминая давние рассказы отца и матери, а также внимательно просмотрев уголовное дело на дедушку, где представлен и материал по моему отцу, я пришёл к некоторым выводам. Первый вывод: родители в 1946-м могли только подать какие-то документы на регистрацию брака, ведь расписать их было невозможно из-за отсутствия паспорта у отца (временного удостоверения). Временное удостоверение № 294, заменившее ему паспорт, выдали только 19 июля 1947 года в Сыктывдинском РО МВД Коми АССР. Это подтверждается и рассказом отца в 80-х годах о том, как они поехали регистрировать брак, но из-за отсутствия паспорта их не расписали. Однако, приехав из ЗАГСа домой, родители никому не рассказали об этом, а вместе с приглашёнными гостями всё-таки отпраздновали свадьбу. Второй вывод: после моего рождения в 1947 году в Моцкайчяй для получения метрики мама, очевидно, предоставила в ЗАГС необходимый документ, полученный от папы, подтверждающий его отцовство. На основании чего ей выдали метрику, включающую полные данные об обоих родителях.
Ещё один факт, подтверждающий, что брак не был зарегистрирован: после побега мамы из ссылки в Литву во всех документах, где указана её фамилия, включая и метрику о моём рождении, упоминается только девичья фамилия моей матери — Савицкайте, а значит, она оставалась на тот момент незамужней.
Жизнь на севере была трудной, и молодой паре захотелось во что бы то ни стало вернуться на родину. Добраться из Сыктывкара до Литвы в то время было можно только на поезде. Обстановка по всей стране оставалась небезопасной, но это их не остановило. Мама была беременна мной, на седьмом месяце.
1 ноября 1946 года они решились на побег. Но при проверке в поезде отца поймали и вернули в спецпоселение, а на мать, как на беременную, не обратили внимания, и она смогла приехать в Литву. 22 января 1947 года родился я. А уже в марте 1949-го её арестовали в деревне Моцкайчяй Таурагского района и посадили в тюрьму Лукишкес в городе Вильнюсе, неправомерно осудив за побег на 3 года лишения свободы. Она провела в той тюрьме 8 месяцев и была переведена в город Городец на Средней Волге. Отсидев два года из трёх, как мать малолетнего ребёнка она попала под амнистию и после тюрьмы была возвращена в ссыльное поселение недалеко от Сыктывкара. И тогда появилась возможность перевезти на север и меня — к маме и другим родственникам. В этом помогли какие-то незнакомые люди, сопроводившие меня, пятилетнего мальчика, на поезде в Россию.
Мама часто говорила, что мой отец был хорошим, заботливым мужем, культурным и интеллигентным человеком, и они могли бы прожить счастливую жизнь, если бы не ссылка и неудавшийся побег. Однако если бы не эта ссылка, то они бы и не встретились. Но дальнейшая жизнь матери продолжилась в Воркуте, так как Савицкасы решили воссоединиться с отцом семейства, а по законам того времени это можно было сделать только в указанном властями месте: в данном случае в Воркуте, где были более суровые условия жизни по сравнению с Сыктывкаром и Красноярским краем.
Мать прошла обучение швейному мастерству и работала швеёй в Воркуте. Однажды в мастерской с ней случилось несчастье: другая швея ножницами случайно попала ей в глаз, в результате чего мама на всю жизнь осталась инвалидом и носила вместо глаза стеклянный протез.
Она вышла замуж за Йонаса Каченаса, тоже ссыльного. В 1958 году у них родилась Бируте, и вместе с нею мама вернулась в Литву, в дом своих родителей, где в то время проживал и я, уже пятиклассник. Дедушка Костас организовал поблизости возведение дома для маминой семьи, и мы заселились в него примерно в 1961 году. Приблизительно тогда же из Воркуты вернулся и отчим, который всё это время зарабатывал деньги для строительства нашего дома.
Мама была очень трудолюбивой и экономной: в ссылке каждый день приходилось решать вопросы выживания, а после, в Литве — кормить и учить двоих детей, строить дом и организовывать быт. Но, невзирая на тяготы, она могла быть очень весёлой, часто шутила и пела песни. Я помню, как красиво она пела без всякого повода народные литовские и популярные русские песни. Особенно хорошо это у неё получалось, когда ей подпевала её сестра Регина.
У матери были хороший голос и слух, наверное, поэтому она решила, что и её дети должны заниматься музыкой. В 6-м классе она повела меня в музыкальную школу, надеясь, что меня туда примут и научат играть на каком-нибудь инструменте. Преподаватель попросил меня что-нибудь спеть. Я исполнил начало песни «Гулял по Уралу Чапаев-герой». Он неопределённо ухмыльнулся и спросил, хочу ли я учиться музыке. Я честно ответил, что это мама хочет, а я нет. На том моя музыкальная карьера и закончилась. А вот Бируте окончила музыкальную школу по классу пианино. Мать из последних денег купила ей инструмент, с удовольствием слушала и очень радовалась, когда сестра играла на нём.
В 1970 году мама с отчимом приезжали в Таллинн на мою и Лидину свадьбу. Я тогда даже не мог представить, что к 1975 году они разведутся. Причиной расставания стало большое несоответствие характеров и то, что отчим «подружился с рюмкой». Для мамы это был второй распад семьи. После развода она самостоятельно выучила в школе дочку Бируте, а потом сделала всё, чтобы та окончила Педагогический институт в Минске по специальности «русский язык».
Чтобы зарабатывать больше денег и помогать Бируте, мама устроилась на лисоферму, а это тяжёлый труд. Там она работала до тех пор, пока сестра не окончила учёбу. Бируте видела, какой ценой далось её образование, поэтому всю жизнь была благодарна и сделала всё, чтобы матери легче жилось в пожилом возрасте. Мама часто вспоминала о трудностях, но была очень довольна, что вырастила такую дочку и дала ей высшее образование.
Так как после развода с отчимом матери пришлось поделить дом в Кретинге на две части, она мечтала об отдельном домике с садом, где могла бы чувствовать себя спокойно и уверенно. И Бируте, серьёзно занявшаяся к тому времени бизнесом, купила ей дом с садом и огородом, основательно его перестроив и отремонтировав. Мать осталась очень довольна. Говорила, что живёт, как в райском уголке. Она любила присматривать за садовыми деревьями (яблонями, вишнями, сливами), кустами крыжовника, чёрной и красной смородины, малины. Выращивала клубнику, укроп, салат, лук, картофель, свёклу, морковь, огурцы в парниках. У неё была большая теплица, где росли помидоры. Когда я приезжал к ней в гости, меня ждали горячие цеппелины из тёртой картошки с мясом или творогом, а из гостиной доносились звуки песен Пугачёвой. Мама знала, что они мне нравятся, и всегда включала пластинку к моему приезду. В саду нового дома у неё был мангал, мы с сестрой часто готовили куриный шашлык и проводили вечера всей большой семьёй. До последних дней мама старалась быть полезной, делала разные заготовки из овощей и всегда давала их с собой, когда мы уезжали. Она очень любила принимать нас, и я до сих пор испытываю тёплые чувства, вспоминая о тех временах.
И во время учёбы в институте в Таллинне, и когда со своей семьёй обжились в Шяуляе, я всегда с большой радостью навещал маму, сестру Бируте, дедушку и бабушку, и других родственников в Кретинге и Клайпеде. Мы часто ездили туда с Лидой и нашими детьми, а однажды там побывала и Лидина сестра Люся из Петербурга. Наверное, меня тянули в те места светлые воспоминания о годах детства после возвращения в Литву и та любовь, которую я и моя семья всегда ощущали от моей мамы и других родственников. В Кретинге мы приезжали и в дом, построенный дедушкой, и в новый мамин дом.
Моя сестра Бируте
Мне очень жаль, что сегодня нет Бируте и её сына Аугюкаса. Мы с сестрой очень любили друг друга, и эта потеря стала для меня трагедией. Бируте родилась в 1958 году в Воркуте. Росла очень смышлёной и развитой девочкой, играла на пианино. Маме очень хотелось, чтобы дочка в своей жизни не испытала тех трудностей, которые выпали на долю старших Савицкасов, и очень заботилась о Бируте.
Когда сестра окончила среднюю школу, я уговорил её получить высшее образование. Бируте приехала к нам в Шяуляй в 1976 году и поступила в Шяуляйский педагогический институт. Затем по обмену студентами уехала учиться в Минский педагогический институт по специальности «русский язык и литература». Мы с Лидой материально ей помогали, но в основном в образование сестры вкладывалась мама. После окончания 4-го курса института Бируте получила направление в Клайпеду и стала работать учителем русского языка и литературы.
Поначалу жила в общежитии. В 1984 году вышла замуж за Евгения Шубина, родила двоих детей, Кристину и Аугюкаса. В школе ей часто приходилось дополнительно работать летом в пионерских лагерях около Клайпеды, и она брала с собой наших детей Римаса и Виргиса, которым это очень нравилось. Около 1988 года её семья переехала в собственную трёхкомнатную квартиру, которую помог получить мой хороший знакомый.
После отделения от СССР в Литве началась приватизация различных государственных объектов. В 1991 году Бируте и Женя оставили прежнюю работу и начали заниматься бизнесом. Закупали товары в Польше, Турции, Арабских Эмиратах и даже в Китае без посредников. Бируте приватизировала магазин в центре Кретинги, где продавала привезённое. А позже купила в Клайпеде большие помещения для реализации китайского товара. Коммерческая работа Бируте была очень трудной, хотя и прибыльной. Времени на детей оставалось совсем мало, но она сделала всё возможное, чтобы воспитать и выучить их. Кристина получила высшее образование в Вильнюсе, а Аугюкас — в Англии. Я часто советовался с сестрой по вопросам бизнеса. Она помогала и нашему старшему сыну, когда он начал своё дело: брала его с собой в Арабские Эмираты, помогала выбирать товар, учила, как лучше реализовать его в Литве. И наш сын был очень признателен ей за помощь. К сожалению, Бируте и Аугюкас очень рано трагически ушли из жизни, и мне всё ещё тяжело говорить об этой утрате.
Савицкасы сегодня
В 2018 году не стало моей мамы, ей было почти 94 года. В 2016 году я потерял сестру и своего племянника. По материнской линии у меня есть племянница Кристина, ей сейчас 35 лет, живёт в Литве в Вильнюсе, замужем. У маминой сестры Марите осталась дочь, моя двоюродная сестра Люда, живёт в Кретинге с мужем, занимается бизнесом. Также в Кретинге живёт её сын Ауримас с женой и двумя детьми. Он успешный предприниматель в области информационных технологий.
А дочь другой маминой сестры, Регины, живёт с мужем в Картене (15 км от Кретинги). Её зовут Данголе, по специальности она фармацевт, работает в своей аптеке. У них трое взрослых детей, они живут в разных районах Литвы, воспитывают собственных детей.
У маминого брата Владаса на сегодняшний день остался сын Альгис. Он фармацевт. Его дети и дети его брата Арунаса проживают в Литве.
Сын старшего брата матери Витаутаса тоже носит имя Витаутас. Он с детства проявлял способности к точным наукам и музыке. Учился в аспирантуре Вильнюсского университета. Но однажды услышав церковное пение, решил посвятить себя духовной жизни. Прошёл духовное обучение во Франции, вместе с другими монахами был отправлен в Литву, в новый монастырь, расположенный примерно в 30 км от нашего сада. Там он получил монашеское имя Йокубас и до сих пор живёт и служит в этом красивом монастыре. Иногда мы встречаемся. Мне очень нравится с ним беседовать, философствовать на разные темы. Он говорит, что это взаимно. Наш старший сын Римантас Витаутас регулярно посещает этот монастырь, обычно живёт там несколько дней, участвует в службе монахов, делит с ними стол и трудовые обязанности, общается с братом Йокубасом.
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИРКЕСЫ. ДО И ПОСЛЕ ДЕПОРТАЦИИ
Происхождение фамилии Миркес
Согласно фамильному диплому фамилия Миркес предположительно образована от еврейского женского имени Мирке — уменьшительной формы от имени Мириам. А суффикс «-с» указывает на то, что фамилия Миркес, скорее всего, сформировалась под балтийским (литовским или латышским) влиянием. Следует отметить, что матронические фамилии (образованные от имени матери или жены) у евреев встречаются гораздо чаще, чем у других народов. Информацию о происхождении фамилии Миркес я встречал не раз: не только в фамильном дипломе, но и в других еврейских источниках. В одном из своих писем мой отец отметил, что предположительно род Миркесов в Литве появился около XVI века и пришёл он сюда из Германии.
Факты биографии моих дедушки и бабушки
В 2017 году Харви Левитт и Дэвид Перл в своём электронном профиле опубликовали данные о евреях, проживавших в Литве, в том числе там были указаны некоторые сведения о жизни моего дедушки Самуэля Давида Миркеса и о его семье. К сожалению, эта страница сегодня уже отсутствует в Интернете. Но у меня сохранились письма моего отца, в которых он кое-что рассказывал о своих предках. Кроме того, в декабре 2022 года наш младший сын Виргилиус поделился с нами информацией с сайта, который включает Вселитовскую базу данных о евреях. И факты всех этих трёх источников действительно согласуются между собой. На их основании я и могу сегодня рассказать читателям этой книги о своих предках по отцовской линии.
Мой дедушка Самуэль Давид Миркес родился в 1889 году. Он был сыном Мордхеля (Максаса) Миркеса и Ханы Каган. Брак моего дедушки Самуэлиса Довидаса Миркесаса (Миркес) и моей бабушки Хаи Фрейдайте (Фрейд) заключён 21 августа 1919 года. Место заключения брака: Шестокай, Сейны, Сувалки. В конце XIX и в начале XX века принадлежность этих мест постоянно менялась. Согласно историческим данным, они принадлежали то Литве, то Польше, то России, то Германии. Все эти земли географически находились недалеко друг от друга и практически не меняли своих названий на литовском языке. Поэтому при оформлении документов в то время могли приблизительно указать название населённого пункта, но совсем не указать страну. На сегодняшний день Шестокай относят к Литве, это недалеко от границы с Польшей, очень близко к городку Симнас, где родился мой отец и долгое время проживала вся семья Миркес. А Сейны и Сувалки принадлежат сейчас Польше.
В данных о женихе отмечено: Самуэль Довид Миркес, дата рождения: 5 мая 1889 года; отец: Максас Миркес; мать: Хана Каганайте (Каган); проживание: Симнас. Невеста: Хая Фрейдайте (Фрейд), дата рождения: 25 декабря 1885 года; отец: Маузиус; мать: Блиума Фредайте (Фрейд); проживание: усадьба Сперня, Алитусский район.
Благодаря тем же электронным ресурсам я обнаружил, что у моего дедушки был брат Аронас Миркес. А ещё в этих документах имеется заявление на получение загранпаспорта для Самуэля Давида Миркесаса (Миркес), дата: 24 февраля 1937 года; рождение: 5 мая 1889 года; место рождения: Симнас, Алитусский уезд; место жительства: Скуодас, Кретингский уезд; деятельность: фармацевт; примечание: загранпаспорт находится в файле. И имеется дополнительная информация, что мой дедушка в 1937 году ездил на лечение в Австрию.
Согласно базе данных «Литовские каталоги евреев», мой дедушка Самуэль Давид Миркес был родом из Симнаса в Литве. Указано, что он получил степень помощника фармацевта в Одессе в 1915 году. В базе данных «Литовские браки» записан брак в 1919 году Самуила Давида Миркеса, сына Макса и Ханы (в девичестве Каган) из городка Симнаса, и Хаи Фрейд, дочери Маусиус и Блюма. Согласно базе данных (Lithuania Marriages) у Самуэля Давида Миркеса и Хаи Бейле (урождённой Фрейд) был сын Мозе (мой отец), родившийся в Симнасе 14 июня 1928 года.
Ниже в тексте помещаются короткие рассказы о городках Симнас и Скуодас, где проживала семья Миркес. Из этих рассказов видно, что до Второй мировой войны более 30% их жителей составляли евреи. Благодаря этим текстам можно составить представление о жизни литовских евреев того времени: чем они занимались и как участвовали в экономическом и общественном развитии страны. До начала войны евреи и литовцы жили мирно и помогали друг другу. Можно только представить, как бы дальше экономически и политически развивалась Литва, если бы еврейское население не было уничтожено во времена Холокоста.
Симнас в период между Первой и Второй мировыми войнами
Симнас — городок в Алитусском районе в Литве. Находится на 24 км западнее города Алитус. Доктор Арунас Бубнис в своей книге, изданной на литовском языке (мой перевод на русский язык), пишет, что евреи начали жить в Симнасе в XVIII веке. Согласно данным описи жителей Российской империи в 1897 году в Симнасе проживали 493 еврея, что составляло 34% от всех жителей городка. По описи жителей Литвы в 1923 году в Симнасе было уже 662 совершеннолетних еврея: 314 мужчин и 348 женщин. Они занимались торговлей, ремёслами и рыболовством в озёрах Симнас, Жувинтас и Гилуйчио. Некоторые евреи (Исхокас Франкас, его сын Ехудас Франкас, Моше Фридас, Зевас Зиманас, Довас Голбергас и Лея Вайнштейн) в период между войнами владели большими хозяйствами и занимались земледелием. Озеро Жувинтас было в собственности Зеваса и Нахумаса Ишлонскисов, а также их двоюродного брата Ноахтаса Розенталиса. Большая часть пойманной ими рыбы продавалась на рынке города Каунаса. В собственности евреев были две мельницы. Городская еврейская община имела синагогу, библиотеку, хедер (начальную религиозную школу) и школу, открытую еврейской просветительской организацией Тарбут (преподавание велось на иврите). В еврейском народном банке в местном отделении состояли 150 акционеров. Последним раввином еврейской общины был Довас Баерас Шницерис. По данным на начало войны в 1941 году в Симнасе проживали 623 еврея (из них 60 детей до 6 лет) и 706 человек других национальностей. Ромуалдас Юкнелявичус в своей книге «Катастрофа евреев городка Симнаса» рассказывает о мирной жизни евреев этого местечка и об их гибели в начале Второй мировой войны. В книге я прочёл, что мой прадед Максас Миркес занимался в Симнасе импортом различных товаров и торговал ими.
Жизнь Миркесов в Симнасе до переезда в Скуодас
Мой отец прислал мне как-то очень интересный документ от 19 июня 1925 года — диплом моего дедушки Давида Миркеса о получении специальности химика-аптекаря. Судя по рассказу отца, в Каунасском университете это был первый выпуск таких специалистов. Дедушка стал первым в своём роду аптекарем-химиком с высшим образованием. Привожу мой перевод этого диплома с литовского языка на русский:
ИМЕНЕМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ректор, Сенат и профессора Каунасского университета в лице ректора Фундаментальной теологии ординарного профессора Д. Пранцишкуса Бучуса и декана Медицинского факультета профессора экстраординарной физиологии Владаса Лашаса сим удостоверяют, что: МИРКЕС САМУЭЛИС ДАВИДАС, родившийся в городке Симнасе Алитусского уезда, прошедший все науки Медицинского факультета отдела Фармации, удовлетворительно сдавший все экзамены, приобрёл все права химика-аптекаря. Подтверждено печатью университета, подписями ректора и декана. 19 июня 1925 г.
Имеется фотопортрет моего дедушки Самуэлиса Давидаса Миркеса, сделанный в 1930 году в Симнасе. Он же использовался для получения внутреннего паспорта Литвы. Из всех фотографий, имеющихся у меня и полученных из архивов Литвы, эта фотография является той, где мой дедушка запечатлён самым молодым.
В Литовском государственном архиве я получил некоторые документы, связанные со службой моего дедушки Давида в рядах стрелков организации «Шаулю саюнга»: служебный лист стрелка Давидаса Максовича Миркеса и данная им присяга от 27 января 1938 года в связи со службой в рядах «Шаулю саюнга».
Важность образования и воспитания в еврейских семьях
С давних времён родители старались обучить детей ремеслу и дать наилучшее образование в рамках своих возможностей, чтобы в тяжёлые времена потомки могли быть максимально защищены в социальном плане. Поэтому и дедушка, и отец получили высшее образование и в дальнейшем работали по специальности. В своих письмах из Игарки дедушка постоянно подчёркивал, как важно хорошо учиться по всем предметам. Его слова помогли мне стремиться к научным знаниям и в будущем достигать карьерных высот. Мой отец сделал всё возможное, чтобы его красноярские дети и внуки получили прекрасное образование, которое они успешно применяют теперь в своей жизни.
Евреи учат своих детей лучше контактировать с людьми других национальностей, чтобы можно было мирным путём решать возникающие вопросы. Сегодня в мире существует множество примеров того, как евреи, выделяясь на фоне представителей других наций, достигают вершин в науке, искусстве, медицине, военном и банковском деле, а также во многих других областях. Все эти достижения становятся возможны именно благодаря воспитанию, культурным и религиозным особенностям еврейского народа, а также их огромному трудолюбию и искреннему желанию преуспеть в жизни.
Еврейская нация и мировое сообщество
Возможно, именно благодаря выдающимся достижениям евреев их иногда недолюбливают представители других наций, что и порождает конфликты. Причиной, на мой взгляд, служит человеческая зависть к успехам. Виноваты ли в этом сами евреи? Конечно, нет. При этом последствия зависти могут быть довольно жестокими, и знать об этом необходимо, чтобы быть готовыми отразить агрессию. Я лично очень доволен, что в мире существует хоть и небольшое, но свободолюбивое и крепкое, хорошо вооружённое еврейское государство Израиль, с которым сегодня вынуждены считаться многие страны. Это является залогом того, что больше никогда в мире не повторится литовская трагедия 1940‑х годов, когда практически всё мирное еврейское сообщество в этой республике было уничтожено.
У меня нет никаких сомнений относительно того, гражданином какой страны я являюсь. Основную часть своей жизни я прожил в Литве, говорю на литовском языке; мне нравится тут всё: люди, красивая природа и хороший климат. В основном мне жилось здесь действительно хорошо: в Литве я построил серьёзную карьеру, со мной рядом любимая жена, мы вырастили двоих замечательных сыновей, у них хорошие жёны и дети, у нас прекрасная квартира в центре Шяуляя, а за городом большой садовый дом с земельным участком совсем рядом с лесом. Кроме того, в Литве у меня много родственников и хороших знакомых. Без сомнений, я гражданин Литвы, имею удостоверяющие этот факт документы, и ни я, ни семьи моих сыновей никогда в жизни не жалели об этом.
Что касается моей национальности, этот вопрос одновременно и сложнее, и проще. Сложнее потому, что в моих жилах течёт четыре крови, главную из которых не так просто определить. И в то же время — раз это невозможно сделать — можно считать, что я являюсь и евреем, и литовцем, и поляком, и французом. Моя принадлежность к четырём национальностям не только не мешает мне жить в этом мире, но и делает меня более приспособленным. И всё же, хорошо всё обдумав, я прихожу к важному для себя выводу, что главным образом отношу себя именно к еврейской нации, отцовская кровь во мне является доминирующей. Я горжусь тем, сколько хорошего передалось мне по отцовской линии: черты характера, главные устремления, достижения… Надеюсь, что эти гены сыграют положительную роль в жизни моих потомков: уже сейчас я вижу, как еврейская кровь помогает в жизни моим детям и внукам. В дополнение к еврейским генам со стороны Лиды нашим сыновьям добавились ещё и финская, и русская кровь. И мы считаем, что такое многообразие — очень хороший ресурс в современном мире.
Оказавшись в Сибири, мой отец сохранил верность еврейской религии. Все его дети и внуки почти полностью ассимилировались с местным населением, в том числе частично и я, не говоря уже о более молодом поколении нашего рода. Но я уверен, что и красноярские, и литовские Миркесы очень хорошо знают и помнят свои корни. Еврейская кровь серьёзным образом влияет на каждого из нас, несмотря на её малую процентную часть в сегодняшних Миркесах. Я думаю, это влияние сохранится и впредь, невзирая на возможное изменение фамилий при заключении брака.
Еврейская община в Скуодасе
Виргиниюс Ёкшас, краевед и директор прогимназии Бартува в городе Скуодасе, собрал множество сведений о местной еврейской общине в период между Первой и Второй мировыми войнами. Вот фрагмент его рассказа в моём переводе с литовского.
Еврейская община в городе Скуодас между войнами была довольно многочисленной и дружной. Местные жители других национальностей не представляли свою жизнь в Скуодасе без еврейской общины. Евреи держали в своих руках всю городскую торговлю и производство. Сегодня еврейской общины здесь больше нет. К сожалению, в Скуодасе и его районе на данный момент почти не осталось еврейского наследия, не сохранилась ни одна из синагог, сгоревших во время Второй мировой войны. После войны Скуодас сник, изменился, был перестроен старый центр города, в котором раньше кипела вся торговая жизнь, уничтожено еврейское кладбище. В. Ёкшас отмечает, что между двумя войнами в Скуодасе проживало около 4 000 жителей, а евреи в нём составляли около 30% от всего населения города (около 1 200 человек). Еврейская община не была закрытой, её члены играли очень большую роль в жизни города. Они активно торговали с литовцами, латышами и немцами. Им принадлежало около 200 различных предприятий, примерно 20 частных сапожных мастерских, фабрик и магазинов, небольшая фабрика искусственных дрожжей, молочное предприятие, несколько прядильных фабрик. На всех этих предприятиях трудилось около 170 работников. В то время самым большим было обувное предприятие «Континент» Исика Канаса — около 50 рабочих. Обувь на нём изготавливалась из очень хорошего сырья, которое собственник фабрики привозил в основном с Шяуляйского кожевенного завода. Ботинки изготавливались разного фасона и размера. Продукцию своей фабрики И. Канас продавал не только в Скуодасе, но и в других городах и местечках Литвы. Было много и других еврейских предприятий в Скуодасе. На фабрике Фогельмана изготавливались пуговицы. Братья Фогельманы торговали и изделиями из металла. Среди евреев-предпринимателей отмечен и работавший химиком-аптекарем мой дедушка Давидас Миркес, который руководил аптекой Didžioji vaistinė («Большая аптека»). В Скуодасе действовала небольшая конфетная фабрика. Многие другие евреи занимались малым предпринимательством: Ёселис Файвушас продавал пшеницу, лён и лесную продукцию, Соломонас Кохенас и Янкялис Сегалисс занимались торговлей, Валяриёнас Кубилёвичус содержал ресторан, Эфроимас Сегалисс имел станцию конных лошадей, Охмунас — мастерскую по пошиву шуб. В Скуодасе евреям принадлежала большая часть магазинов, находившихся преимущественно в центре города. В основном торговали сами собственники, которым помогали члены семьи или нанятые помощники. Между войнами в Скуодасе действовало несколько еврейских спортивных организаций, в том числе еврейская футбольная команда. В 1924 году был создан филиал спортивной организации «Макаби». Около 1919 года в Скуодасе была открыта четырёхклассная школа с преподаванием на идише, в ней работали пять учителей. В 1922 году открылась новая еврейская начальная школа, где учили исключительно на иврите. Позже в Скуодасе начала действовать и еврейская средняя школа, которую содержала еврейская община. В 1923 году в ней училось около 70 школьников.
Жизнь Миркесов в Скуодасе
В своих мемуарах «Мой маленький город Шкуд» Леон Бернштейн так рисует портрет фармацевта Давида Миркеса: «Во главе Бетара (молодёжной сионистской организации, созданной в Риге в 1923 году) стоял оригинальный и энергичный человек — Миркес. Он приехал сюда в 1927 году из литовского городка Симнас. Однако будучи сильной личностью, он быстро занял лидирующее место в еврейской общине Шкуда». Журналист и писатель Пранас Шарпницкис, автор интернет-блога о жизни города Скуодаса и его людях, в одной из своих статей поделился информацией о том, что мой дедушка Давид Миркес, проживая и работая в Скуодасе, изобрёл и запатентовал медицинский препарат от боли. Это было первое изобретение лекарства в городе и довольно редкое событие в Литве в те годы. Эти сведения П. Шарпницкис получил от бывшего жителя Скуодаса, в последние годы гражданина США, Раймундаса Шукиса. Тот рассказывал, что с детства знал семью Миркес и что в период между войнами самым красивым и высоким зданием из красного кирпича являлся дом в центре Скуодаса по адресу площадь Гедиминаса, 20. Комнаты здесь были с высокими потолками, а по бокам второго этажа возвышались два флигеля с большими просторными комнатами. Если бы это здание не было уничтожено во время войны пожарами, возникавшими в результате боевых действий, то и сегодня могло бы считаться украшением города. Шукис рассказывал, что на втором этаже располагались три квартиры, и в центральной части второго этажа самой большой была квартира семьи Миркес. На первом этаже с северной стороны находился государственный магазин по торговле водкой, с южной стороны — отдел международного литовского банка, а в середине здания — Didžioji vaistinė («Большая аптека»), принадлежавшая моему дедушке.
Также Пранас Шарпницкис предоставил для нашей книги очень ценные кадры: выписанный рецепт и термометр, проданные на аукционе ARS VIA в 2019 году. Этим именным термометром пользовался мой дедушка Давид Миркес до 1940 года.
Не так давно я обнаружил старую телефонную книгу Литвы, выпущенную около 1935 года, где в списке немногочисленных абонентов города Скуодаса, имевших телефонную связь, отмечен и Давид Миркес. В справочнике указано, что Давид Миркес — химик, аптекарь, Didžioji aptieka («Большая аптека»), по адресу площадь Гедиминаса, 20, имеет телефонный номер 17. Уверен, что телефон моему дедушке был очень нужен, он был незаменим в аптекарском деле, а также помогал поддерживать связь с важными для дедушки людьми.
Журналист Пранас Шарпницкис в своём очерке отмечает, что о Миркесе вспоминали как о человеке с большой буквы: он был честен, пользовался уважением горожан, был активным общественником и любящим Скуодас евреем. Также автор не обошёл вниманием и тему депортации 1941 года. Между войнами мой дедушка состоял в организации «Шаулю саюнга» (Союз стрелков) и во время государственных праздников любил надевать форму Союза стрелков. Кроме того, он был начальником добровольной дружины пожарных города Скуодаса и членом еврейской сионистской организации. 14 июня 1941 года он был отделён от семьи и вывезен в Красноярский край. 2 января 1943 года Особым совещанием отдела НКВД СССР его осудили на 8 лет лагеря, хотя прокурор требовал назначить высшую меру наказания — расстрел. В 1948 году после отбывания наказания в исправительно-трудовом лагере Самуэль Давид Миркес был направлен на поселение в Хатангский район Красноярского края. В Томске в 1962 году Самуэль Давид Миркес умер. Его первая жена (моя бабушка) Хая Миркес умерла во время ссылки в Республике Коми в 1944 году.
Некоторые факты из жизни Самуэлиса Давидаса Миркеса
Среди материалов Литовского государственного архива Литвы в 2020 году я нашёл снимки, на которых, ещё до ссылки в Литве в 1939 году, дедушка запечатлён в форме шаулиста, а после ссылки сфотографирован в исправительно-трудовом лагере в Краслаге Красноярского края в 1941 году. Согласно подписям к этим снимкам Самуэлис Давидас Миркес, рождённый в 1889 году, являлся до установления советской власти в 1940 году жителем Скуодаса, собственником аптеки, руководителем пожарной команды стрелков г. Скуодаса, членом сионистской партии. А 14 июня 1941 года был арестован и сослан в исправительно-трудовой лагерь Краслага НКВД СССР.
В уголовном деле на моего дедушку есть письмо от моего отца:
Министру внутренних дел Литовской ССР от Миркеса Моисея Давыдовича, проживающего в г. Игарка Красноярского края, ул. Сталина, дом № 31а кв. 4, 1928 г. рожд.
Я родился 13 июня 1928 г. в Литовской ССР, местечко Симнас. До 1941 г. я проживал в г. Скуодас Кретинского уезда Лит. ССР вместе с родителями: отцом Миркесом Самуилом-Давидом Максовичем и матерью Миркес Хаей-Белой Моисеевной. В 1941 г. мой отец был арестован и по решению Особого совещания осуждён сроком на 8 лет заключения, а после заключения направлен в ссылку. Моя мать как член семьи в тот же день была сослана в Коми АССР село Слобода Сыктывдинского района. Вместе с матерью туда был привезён и я (мне было тогда 13 лет). Моя мать померла 11 июня 1944 г. После её смерти я жил без родных.
В 1946 г. в Коми АССР прибыл представитель Верховного Совета Лит. ССР по малолетним детям, которые были завезены вместе с родителями и остались одни, в этом списке был и я. Так как я в то время работал на производстве, меня с производства не отпустили. В 1947 годуг. я получил паспорт, после чего переехал в г. Канск Красноярского края. Весной того же года я поступил учиться в Красноярский ФЗО. После окончания ФЗО по разнарядке трудовых резервов я был направлен на работу в порт Игарка, где я работаю и по сей день. В 1950 г. при обмене паспорта последний был у меня изъят, и я был поставлен на учёт в Игаркинской спецкомендатуре, никакого обвинения мне не было предъявлено. По работе имею благодарности, неоднократно премирован, имею почётную грамоту. До сих пор я не знаю, за какой проступок я нахожусь в ссылке, ведь из дому я выехал, когда мне было 13 лет и учился в 7 классе и был вывезен по причине обвинений на моего отца. В настоящее время решением МВД, КГБ и прокуратуры СССР от 15.08.1955 мой отец получил паспорт, из ссылки освобождён, а я ограничен в передвижении. Прошу рассмотреть моё дело по незаконному лишению меня прав и снять с меня ссылку. 9 октября 1955 г.
Отец был вывезен совсем мальчишкой, ему исполнилось всего 13 лет. А когда его мать умерла, ему было 16 лет, то есть в то время он был ещё совсем юный паренёк. Я не представляю, как он мог жить в то время один, в течение трёх лет заботиться о больной матери, в тяжелейших условиях трудиться на лесосплаве, а после смерти матери принимать непростые судьбоносные решения. Сегодня обычному человеку этого невозможно понять.
В уголовном деле находится опись имущества семьи Давида Миркеса от 14 июня 1941 года. Это имущество было передано под роспись моим дедушкой жительнице Скуодаса. В расписке сказано, что она берёт на себя обязательство в десятидневный срок реализовать эти вещи, а вырученные от продажи деньги передать по адресу, указанному Наркомом Государственной безопасности. Эта женщина выступала как доверенное лицо моего дедушки.
Перечень имущества:
- Шкаф для одежды — 2 шт.
- Кровати — 3 шт.
- Письменные столы — 2 шт.
- Буфеты — 2 шт. (один кухонный)
- Пианино (иностранной фирмы) — 1 шт. (маленькое)
- Швейная машинка Zinger — 1 шт.
- Кушетка — 2 шт. (1 в аптеке)
- Стулья — 14 шт.
- Различные книги — около 570 шт.
- Различные тарелки — 63 шт.
- Различные стаканчики — 34 шт. (рюмки)
- Различные стаканы — 20 шт.
- Вилки — 11 шт.
- Ложки — 2 шт. (серебряные)
- Ножи — 11 шт.
- Чайник — 1 шт.
- Письменный комплект — 2 шт.
- Столик — 1 шт.
- Лампа — 1 шт.
- Люстры — 2 шт.
- Велосипед немецкий — 1 шт.
- Радиоаппарат — 1 шт. (приёмник Telefunken)
- Фотоаппарат — 1 шт. («Рекорд»)
- Подушки — 14 шт.
- Скатерти — 10 шт.
- Покрывала — 2 шт.
- Постельное бельё — 2 шт.
- Полотенца — 5 шт.
- Различные кухонные принадлежности
- Примус — 1 шт.
Я пытаюсь представить состояние дедушки: у него и его семьи забрали честным трудом нажитое имущество, после чего их в тот же день запихнули в вагон, используемый для перевозки скота, и вывезли неизвестно куда из Литвы. Понять это нормальному человеку невозможно. Члены семьи Миркес никому не причиняли вреда, наоборот, честно учились и трудились. Я склонен думать, что советская власть применяла в Литве те же жестокие методы, что и против граждан России, не принявших революцию 1917 года. Тогда большевики развязали Гражданскую войну, чтобы создать Советскую империю и насадить свои порядки на всей её территории, расправившись с инакомыслящими. Ценою этого стали несколько миллионов жертв и разрушенная на долгие годы экономики России. Единственным возможным утешением для моих дедушки, бабушки и отца, наверное, был тот факт, что сталинская депортация спасла жизни Миркесов, так как после ухода Красной армии в Литве в начале Второй мировой войны начался Холокост, массовое истребление еврейского населения. Из 220 000 проживающих в Литве евреев выжило не более 20 000 человек.
В уголовном деле имеется рапорт начальнику оперативной тройки Госбезопасности от тов. Щараса — старшего оперативной группы. РАПОРТ По Вашему заданию оперативной группой в составе трёх человек 14 июня 1941 года произведено выселение из города Скуодас Кретингского уезда одной семьи в количестве 3 человек. Фамилия, имя и отчество выселенных:
- Миркес Самуэлис Довидас с. Макса
- Сын Миркес Мойша с. Самуэлиса Довидаса
- Миркесене Хая д. Мойши, примечание: её нету в Скуодасе и не представлена. Семья в указанном количестве доставлена на погрузочный пункт станции, без жены Миркесене и сдана в эшелон. Из состава семьи сдан в эшелон как арестованный Миркес Самуэлис Довидас, с. Макса. Сдано в эшелон на выселение 1 человек. Старший опергруппы Щарас. Подпись.
Рапорт составлялся опергруппой на каждую выселенную семью в отдельности, в трёх экземплярах (под копирку чернильным карандашом), из них старший опергруппы один экземпляр подшивал в дело и вместе с делом сдавал начальнику эшелона, а второй и третий экземпляры для отчётности — в уездную опертройку, которая оставляла один экземпляр в собственных папках, а второй направляла в оперативный штаб НКВД.
В уголовном деле ничего не сказано о том, каким образом моя бабушка Хая Миркес оказалась в Коми АССР вместе со своим сыном (моим отцом), где и когда она была посажена в эшелон и депортирована в Россию. Я лишь смутно вспоминаю рассказ отца о высылке, он говорил о героическом поступке своей матери, оставшейся вместе со своей семьёй в момент депортации. Моя бабушка каким‑то образом узнала о предстоящих арестах, будучи в то время в Каунасе на курсах помощников аптекаря. Бросив все дела в Каунасе, она тут же рванулась в сторону Скуодаса, чтобы быть рядом со своим мужем и сыном. Я запомнил только то, что бабушка или в начале пути, или на какой‑то станции в Литве сумела добиться того, чтобы ехать в одном вагоне с собственным сыном. Таким образом мой отец и оказался вместе в ссылке со своей матерью в Коми АССР. В 1944 году там же он её и похоронил.
Когда я исследовал уголовные дела, заведённые на моего деда и отца, обнаружил большое количество различных справок, анкет, характеристик с мест работы и проживания. Как правило, все эти бумаги прилагались моими предками к оформляемым просьбам и жалобам в вышестоящие инстанции как веские свидетельства невиновности и конкретные факты, благодаря которым можно было бы принять справедливое, соответствующее законам того времени решение. Некоторые документы я привожу в этой книге без каких‑либо развёрнутых комментариев, потому что их тексты во многом говорят сами за себя.
В 2014 году я помогал с оформлением литовского гражданства моей племяннице Саше. Для этого мне самому пришлось получить в Центральном государственном архиве справку о гражданстве и жизни в Литве, в которой в том числе содержалась информация: «Жителю города Симнаса Миркесу Довидасу-Самуэлису в апреле 1930 года выдан внутренний паспорт Литвы». В архивном фонде «Шаулю саюнга» (Союза стрелков) были найдены и другие документы, прилагаемые к той справке: служебный лист Давида Миркеса от ноября 1934 года (2 листа) в его деле и его присяга (1 лист) от января 1938 года. В архиве Министерства внутренних дел имеются данные о выдаче иностранного паспорта (4 листа) Миркесу Самуэлису Давидасу в феврале 1937 года, включая копию этого паспорта.
Паспорт дедушки: № паспорта 1368692
- Владелец паспорта: Имя: Самуэлис Довидас. Фамилия: Миркес.
- Дата рождения: 5 мая 1889.
- Место рождения: Уезд: Алитусский. Волость: Симнас. Город: Симнас.
- Постоянное место жительства: Алитусский уезд, волость Симнас, город Симнас.
- Занятие: Химик-аптекарь.
- Вероисповедание: израэлит.
- Национальность: еврей. Личные данные: Рост — средний, лицо — овальное, волосы — чёрные, глаза — чёрные. Фото дедушки. Подпись Д. Миркес. Паспорт выдан 25 апреля 1930 г. Правлением волости Симнаса, Алутусского уезда
Для получения этого паспорта прилагалось удостоверение № 3120 от 21 мая 1941 года, согласно которому после установления советской власти в Литве аптека Д. Миркеса была национализирована, и дедушка устроился работать в другую аптеку (№ 179) заведующим.
А вот справка по «объекту разработки». СПРАВКА По формул., учетн. делу № 1101
- Фамилия, имя и отчество объекта разработки — Миркес Давид Максович.
- Год рождения — 1889.
- Место рождения — г. Симнас, уезд Алитус.
- Точный адрес (где проживает в момент составления справки) — г. Скуодас ул. Гедиминаса айкште [площадь], дом № 20, Кретингского уезда.
- Место работы — зав. аптекой № 2 в г. Скуодас.
- Национальность — еврей.
- Гражданство — СССР.
- Социальное происхождение — из учителей.
- В каких политических партиях и организациях состоял — организации «Бетар», сионистов и шаулистов.
- Если состоял в политических партиях, то какое в них занимал положение — руководитель сионистской организации в г. Скуодас и член ЦК организации сионистов в Литве. Примечание: Пункты 8, 9, 10 должны быть подтверждены документальными данными.
- Состав семьи:
- Миркене Хая Фрейда, 1894 г., жена, домохозяйка.
- Меркис Мойша, 1928 г., сын, ученик.
- Меркис Макс, 73 года, отец.
- Подробное изложение компрометирующего материала: Миркес Давид Максович до прихода частей Красной Армии имел свою собственную аптеку, состоял членом контрреволюционной организации шаулистов. Одновременно был членом еврейской националистической сионисткой организации «Бетар», являлся руководителем последней по Скуодасской волости на протяжении 10 лет и так за активную работу был избран членом руководящего состава общелитовской организации сионистов. В настоящее время проявляет антисоветские настроения. Составлена 30 мая 1941 года г. Кретинга Начальник Подпись.
По дате «30 мая 1941 года» мне очевидно, что уголовное дело на моего дедушку собиралось уже в начале 1941 года, чтобы обвинить его в преступлениях, которых он не совершал, и подготовиться к заранее организованной депортации. О том, что она была запланирована намного раньше, говорят и подробно изложенные компрометирующие материалы. Собрать и представить такой объём за 1–2 месяца практически невозможно, поэтому необходимо было заблаговременно провести целенаправленную работу. Думаю, что эта подготовка могла начаться уже в 1940 году, сразу после прихода советской власти в Литву. Я прихожу к выводу, что сбор материалов по уголовному делу был частью хорошо отработанной системы и осуществлялся заранее соответствующими органами СССР.
МЕМОРАНДУМ
По делу формуляр № 1101 на Миркеса Давидаса, с. Максаса, 1889 г. рождения, уроженца м. Симнаса, зав. аптекой № 2 в м-ке Скуодас, беспартийного, проживающего в м-ке Скуодас по ул. Гедимино площадь 20, уезда Кретинга. Свидетель Зильберштенене 10 февраля 1941 г.: «Миркес состоял в организации сионистов и был её руководителем, состоял в организации шаулистов. Миркес выражался всегда против коммунистов, называя их „красной бандой“. Существующие государственные цены на лекарства Миркес меняет, продаёт по повышенным ценам. Одно лекарство стоило 23, а Миркес продаёт по 25, соски по 45 коп., а он продаёт по 1 руб., градусники стоили по 3,50 руб., а Миркес продавал их по 7 руб. Если клиенты спрашивают, почему у вас лекарство такое дорогое, то Миркес отвечает: „Радуйтесь, что это есть в теперешнее время“». Источник Фогельман 19 февраля 1941 г.: «Миркес ранее состоял в организациях шаулистов и сионистов, помогал полиции вылавливать коммунистов». Источник Светов 19 февраля 1941 г.: «Миркес до прихода Красной армии в Литву был активным членом организаций шаулистов и сионистов, в которых был избран членом руководящего органа вселитовской организации сионистов и активно защищал сметоновский режим». Источник Ульфиненкис 19 февраля 1941 года: «Я знаю, что Миркес всех подозревающихся в коммунизме называл „красной бандой“». Печать: НКГБ Литовской ССР Оперуполномоченный КРО НКГБ УО Кретинги Подпись Щарас
Согласно протоколу допроса от 13 апреля 1942 года следователем оперативно-чекистского отдела при Красноярском ИТЛ дедушке был задан вопрос: «Какие награды вы имели?» Он ответил, что в 1934 году литовским правительством был награждён медалью пожарного, что и подтвердил своей подписью.
Мой отец прислал мне в письме заявление Петронеле Петрайтене, Антано, проживавшей в Литовской ССР, г. Каунасе, Кястучио 52, от 4 ноября 1989 года на имя председателя исполнительного комитета г. Скуодас. Выступая важным свидетелем по делу, она предоставила этот документ по просьбе моего отца, чтобы тот мог получить компенсацию за потерю всего имевшегося имущества по причине ссылки. Отец заинтересовался этим вопросом после разговора с одним красноярским знакомым, узнав, что ссыльным того времени (после выхода Литвы из состава СССР) полагается какая‑то компенсация. В документе, заверенном нотариусом, П. А. Петрайтене, родившаяся в 1906 году, заявляет и рассказывает, что семью Миркесов она знает с 1935 года. В 1934 году она вышла замуж за доктора М. Фрейдаса. Сестра её мужа Хая Фрейдайте со своим мужем Д. Миркесом жила в Скуодасе. Она [Петрайтене] и её муж часто навещали Миркесов в Скуодасе.
«Их семья — отец Д. Миркес, жена Хая, сын Миша и дедушка жили зажиточно, в хорошо обставленной квартире. В том же самом доме была и их собственная аптека (Д. Миркес был фармацевтом-провизором). Их квартира была полностью меблирована: столовая, салон, спальная, кабинет с большой библиотекой ценных книг, в том числе энциклопедия Брокгауза и Ефрона, изданная в Российской империи. Была большая кухня. В комнатах была хорошая мебель, ковры, занавеси, картины, люстры, фарфоровые сервизы, хрустальные вазы, серебряные подсвечники, серебряные столовые принадлежности: ножи, вилки, ложки, серебряные рюмочки, постель и др. Члены семьи хорошо одевались, носили шубы. В 1941 году всю семью Миркес вывезли в Сибирь. В 1942 году моего мужа доктора М. Фрейдаса немцы расстреляли. В 1954 году я вышла замуж за Петрайтиса Й. и ниже этой фамилией подписываюсь».
Жизнь Давида Миркеса в России после депортации
Согласно имеющейся выписке из протокола № 64 от 15 апреля 1948 года, подписанной инспектором спецотдела, Самуэлис Давидас Миркес отработал за первый квартал 1948 года 79 дней. Также в ней указан срок окончания наказания — 7 декабря 1948 года. Эта выписка из протокола подтверждает, что мой дедушка не просто сидел в ИТЛ, но и работал там примерно 26 рабочих дней в месяц.
Почему в 1950-х годах и в дальнейшем он так упорно добивался реабилитации? Приговор, вынесенный в январе 1943 года Особым совещанием НКВД СССР с осуждением на 8 лет, был несправедливым. После пребывания в ИТЛ его направили на поселение в г. Игарку. Невозможно сегодня посчитать и определить, какие моральные и материальные потери понёс мой дедушка в связи с необоснованной высылкой из Литвы и пребыванием в местах лишения свободы. Добиваясь полной реабилитации, он хотел хоть какой-то компенсации ущерба. Само собой, Давид Миркес предполагал, что весь срок с момента депортации до конца его пребывания на поселении в Игарке будет приравнен к непрерывному трудовому стажу, и он сможет получать нормальную пенсию. Он надеялся, что ему будет возвращено или полностью компенсировано незаконно конфискованное имущество и другие моральные и материальные потери. Дедушка рассчитывал, что с учётом этих компенсаций он сможет вернуться на постоянное место жительства в Литву со своей второй женой Алиной Миркес и встретиться со мной, своим внуком, о чём не раз писал в своих письмах. Но, к огромному сожалению, мечтам моего дедушки о возвращении в Прибалтику не суждено было воплотиться: он умер после серьёзной болезни в начале 1962 года. А вопрос реабилитации согласно ниже приведённым документам был решён только 16 января 1989 года, спустя 27 лет после его смерти.
Если же говорить о моём отце, в одной из приложенных анкет содержится его словесный портрет:
Рост средний (165–170 см), плечи опущенные, шея короткая, цвет волос — чёрный, цвет глаз — карий, лицо овальное, лоб низкий, прямой, брови дугообразные, густые, нос малый, спинка носа прямая, основание носа — горизонтальное, рот малый, углы рта опущены, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие, овальные, оттопыренность ушей — верхняя, мочка уха отдельная, овальная. Анкету заполнил пом. коменданта ГО МГБ, мл. лейтенант, подпись 14 апреля 1952 г.
Какое-то время мой отец был лишён паспорта. Это подтверждается временным удостоверением № 294 от 19 июля 1947 года, выданным Моисею Давыдовичу Миркесу со сроком действия на 1 год.
Удостоверение выдано Сыктывдинским РО МВД Коми АССР с. Вильгорт.
На основании каких документов выдано удостоверение: на основании ст. 38 Пол. о паспортизации и ф. № 1.
Начальник милиции, подпись.
Нач. паспортного стола, подпись.
В своих дальнейших просьбах Моисей Миркес просит вернуть ему паспорт, отобранный по прибытии в Красноярский край. Опираясь на данные вышестоящего документа, я считаю, что у отца отобрали не паспорт, а то самое «временное удостоверение». После получения отец не обратил внимания на пометку «на основании ст. 38 Пол. о паспортизации и ф. № 1», которая фактически запрещала ему без согласия местных органов покидать своё постоянное место жительства. Поэтому, когда он уехал без разрешения местных органов к своему отцу в Красноярский край, его несогласованный отъезд посчитали побегом и начали преследование со всеми соответствующими мерами.
В справке о гражданстве и жизни в Литве, полученной мною из Государственного центрального архива Литвы в апреле 2014 года, сказано, что в архивном фонде Министерства народного просвещения Литовской ССР имеется документ от ноября 1945 года — список детей-сирот, возвращённых из Коми АССР в Литовскую ССР, в котором под номером 11 указан Мозе Миркес, сын Давидаса, 16 лет. В графе «адрес» вписано: «Коми АССР, Сыктывдинский р-н., с. Слободский рейд». А в перечне документов Президиума Верховного Совета СССР есть решение о возвращении в Литовскую ССР литовских детей сирот, которых надлежит вернуть из Коми АССР в мае 1946 года. Под номером 8 в этом списке — Мозе Миркес, сын Давидаса, возраст 16 лет. В графах «адрес детей» и «№ решения Верховного Совета» соответственно вписано «Коми АССР, г. Сыктывкар, ул. Пушкина» и «1945 г., ноябрь» (номер решения не указан).
Однако информация «Сыктывдинский р-он, с. Слободский рейд» ошибочна. И указанный под номером 11 Мозе Миркес, сын Давида, возвращён не был. Верным же является текст «В перечне документов № решения не указан». К тому же в этой справке нет никаких конкретных данных относительно отца Моисея. То есть мой отец не был полным сиротой — возможно, поэтому его в итоге и не искали для целенаправленного возвращения в Литву. А может быть, основную роль сыграло и то, что он, оставшись без своей матери (умерла) и моей матери (сбежала в Литву), самовольно уехал в 1947 году в Красноярский край.
Я посчитал уместным приложить к этой главе дорогие мне тексты — это письма, написанные мне дедушкой Давидом, а также текст переписки моих двух дедушек, Костаса Савицкаса и Давида Миркеса, и сохранённые мною письма от его второй жены, Алины Миркес. Дедушка Давид и его жена Алина относились ко мне очень тепло и мечтали вернуться в Прибалтику, чтобы мы встретились и пообщались вживую, как близкие люди. Дедушка Давид неоднократно упоминал, как бы ему хотелось, чтобы мы также переписывались и поддерживали тёплые отношения и с моим отцом, чтобы я, пусть и с запозданием, но получил толику любви моего отца как компенсацию его отсутствия в моём детстве. Желание дедушки сбылось, и в юности мне удалось установить с отцом близкие тёплые отношения, и со временем они только укреплялись. Кое-где я также добавил свои комментарии в надежде, что мне удастся лучше передать читателям, как жили люди после лагерей и ссылок и какими были чувства разлучённых близких родственников.
Письма из Сибири
Встреча двух моих дедушек — со стороны матери и со стороны отца — является для меня одним из очень важных событий. Они встретились в ИТЛ в Красноярском крае, где оба отбывали несправедливое наказание. И оба знали, что у них в Литве появился и растёт их первый внук, то есть я. Это сблизило их как родственников как на тот момент, так и на всю оставшуюся жизнь. Давид Максович, будучи аптекарем и ответственным по медицинской части, помог Костасу получить более лёгкую работу в лагере, обеспечивал необходимыми лекарствами. После того, как дедушка Костас уехал в Воркуту, а потом вернулся из ссылки в Литву, они и дальше продолжали поддерживать тёплые отношения через переписку, в том числе они обсуждали и мою жизнь. Благодаря этому и у меня самого началась регулярная переписка с дедушкой Давидом. При помощи дедушки Костаса он даже на расстоянии дарил мне ценные подарки: взрослый велосипед, фотоаппарат и др. Я до сих пор очень ценю ту возникшую дружбу между моими дедушками. Они оба внесли огромный вклад в моё воспитание, в мою жизнь, и я всегда буду помнить об этом. И мне очень жаль, что Давид Максович умер так рано. Наверное, если бы тогда мои дедушки не подружились, сегодня у меня не было бы таких хороших отношений и с моим отцом, и с моими близкими родственниками из Красноярска. Поэтому сохранившиеся письма — огромная ценность для меня. Я прилагаю их здесь с большим теплом и некоторым волнением. К сожалению, нет возможности разместить оригиналы всех писем. Некоторые напечатаны на пишущей машинке и даже не всегда подписаны самим дедушкой.
из Игарки 4 марта 1958 г.
от Давида Миркеса внуку Витасу
Дорогой внучек Витя!
С большим опозданием поздравляю тебя, мой милый и дорогой, с одиннадцатым днём рождения. Желаю вырасти здоровым, хорошо учиться и быть радостью для всех твоих родных. Мы счастливы, что ты хорошо учишься. Конечно, очень больно, что судьба разделила твоих родителей. Ты не знаешь отцовской любви, заботы, и поэтому твой отчим мог позволить себе такой поступок, как запретить тебе с нами переписываться. Очень умно ты поступил, что написал нам через посредство дедушки. Пиши мне, дорогой мой, какие книги, журналы ты хотел бы получить, и я выпишу тебе. Я пошлю деньги в Кретингу, и дедушка перешлёт тебе. Как твоё здоровье, как учёба. Какие предметы тебе даются лучше, какие хуже. Участвуешь ли ты в хоре, а может, играешь на каком‑нибудь инструменте. В каких кружках участвуешь.
Очень хочу тебя увидеть, побыть с тобою. Я в январе болел. Возможно, что поеду отдохнуть летом и постараюсь поехать в Литву. Было бы хорошо, если бы летом встретились. Бабушка шлёт тебе сердечный привет, и я с бабушкой много-много поцелуев. Папа уехал в командировку. Он работает заместителем начальника порта. Он посылает для тебя ежемесячно около 600 рублей.
Его на работе любят и уважают.
Он тоже способный.
Крепко целую, дедушка
Письмо от дедушки Давида из Игарки — дедушке Костасу в Кретингу
Игарка, 20 октября 1958 г.
Дорогие мои!
Письмо Ваше и оба письма Вити получил. Как всегда-всегда, я очень обрадовался им. Сегодня для меня большой праздник, а именно: мой сын в первый раз написал письмо своему сыну. Надеюсь, что теперь связь их будет постоянная. Конечно, очень печально, что Вите скоро будет 12 лет, а он ещё не видел отца и ни разу письма от него. Мне очень больно, что Витя до сих пор не чувствовал отцовской ласки, а когда мать выходит за другого, тогда она становится тётей. Поэтому неродного отца называют дядей. Сына переводят в Красноярск, где его жена работает директором музыкальной школы. Дочка с бабушкой (матерью жены сына) ещё в августе уехали в Красноярск. Здесь сын получал 100% надбавки северной + за отдалённость. Теперь он будет получать намного меньше, но он уже 10 лет в Игарке. Мы с женой пока остаёмся в Игарке. В будущем году видно будет, куда переедем. Получаю письма от землячки врача Аронсас, которая живёт в Сыктывкаре со своими дочерьми, зятьями и внуками. У нас в этом году зима ранняя, а лета почти что не было. На днях вышлем посылочку Вите. В ней будет подарок от его папы, а также фотоаппарат от бабушки и от меня подарок.
С приветом от жены и меня.
Письмо от дедушки Давида из Игарки — дедушке Костасу в Кретингу
Игарка, 3 января 1959 г.
Дорогой друг!
Получил Ваше письмо одновременно с Витиным письмом. Я очень счастлив и рад письмам внука. Очень обрадовался, получив сегодня его поздравительную телеграмму к Новому году. Чем дальше, тем дороже и ближе становится мне Витя. Благодарю Вас от всего сердца, что Вы и Ваша супруга воспитали и воспитываете его так, что можно им гордиться.
Мечтаю о том, чтобы его повидать. Возможно, что мы последнюю зиму зимуем в Игарке и тогда, наверное, увидимся, когда отсюда уедем. Привет Вам и Вашей супруге от моей супруги и меня.
Письмо Витасу от дедушки Давида
Игарка, 23 августа 1959 г.
Дорогой милый Витя!
Твоё письмо вовремя получили. Отвечаю тебе с большим опозданием потому, что лето прошло так быстро, и разные мелочи были причиной того, что вовремя не ответили тебе. Ждали приезда твоего папы, который должен был приехать в командировку. Папа работает ревизором коммерческого отдела управления Енисейского пароходства. Ждали его в начале июня, а приехал только в июле и всего на несколько дней. Его срочно вызвали в Дудинку, которая приблизительно в 300 км севернее Игарки, то есть ближе к морю. Папа должен был пробыть в Дудинке две недели и затем ещё прожить неделю в Игарке. На самом деле он пробыл в Дудинке месяц и оттуда прямо поехал в Красноярск. Думали вместе написать тебе письмо, но, к сожалению, на этот раз не вышло. Мы с бабушкой рады были читать твои отметки. Надеемся, что в наступающем учебном году у тебя будут круглые пятёрки даже по литовскому и французскому языкам. Поздравляем тебя с началом учебного года. Постройка дома, наверное, уже закончилась, и Вы живёте уже в своём доме. Молодцы вы все, что послушались дедушку и построили свой дом.
Приятно иметь свой родной угол, то есть жить в своём собственном доме. С меня после долгих хлопот сняли судимость, и у меня теперь чистый паспорт. В июле я опять подал заявление о реабилитации. Мне много раз отказали в этом, но я всё пытаюсь добиться своего. Если получу реабилитацию, тогда выйду на пенсию, и мы сумеем тогда часто видеться. Мы приедем повидаться с тобой и бабушкой с дедушкой. А потом мы будем ждать тебя у нас. Уж очень хочется видеть тебя. Из Игарки поехать в Кретингу очень далеко. То же самое из Кретинги в Игарку. Но когда выйдем на пенсию, мы, конечно отсюда уедем и будем жить близко к Вам. Ещё через полтора месяца окончится навигация и начнётся длинная зима. В этом году лето было тёплое и, можно сказать, без дождей. Привет бабушке, дедушке, маме и Бируте. Крепко тебя це-
луем и ждём твоих писем.
Бабушка и дедушка
Примечание Витаутаса Миркеса. Хотя моему дедушке сняли судимость и у него появился «чистый» паспорт, он долгое время добивался своей полной реабилитации и в июне 1959 года снова подал заявление. Невзирая на многократные отказы, он всё же пытался добиться своего. К огромному сожалению, надежды дедушки о получении своевременной реабилитации не оправдались, и он был вынужден жить и работать в Игарке. В уголовном деле находится удостоверение о реабилитации Миркеса Самуэля-Давида Максовича, выданное Прокуратурой Литовской ССР 15 мая 1989 года, подписанное Прокурором Литовской ССР. Это удостоверение о реабилитации было принято только через 27 лет после смерти моего дедушки в 1962 году. При жизни ему не удалось добиться этого решения и нормальной пенсии, и материальные возможности не позволяли вернуться на родину, а значит, и встретиться со мной.
Письмо дедушки Давида Витасу
Игарка, 15 марта 1961 г.
Дорогой Витя!
Получили письмо от тебя и от твоего Дедушки. Не ответил сразу потому, что я месяц времени лежал в больнице. У меня сахарная болезнь, и мне нельзя кушать сахара, всяких сладких вещей, варенья и так дальше. У меня всегда бывало 0,5% сахара в моче, а в последнее время мне стало хуже, и сахара в моче было 3,5%. Теперь мне стало лучше. Когда выписался из больницы, у меня было только 1,5%. Я уже работаю в аптеке. Сегодня бабушка заболела. Решили, что осенью поедем в отпуск. Приедем к Вам. Мать и сестра бабушки живут недалеко от Вайноде в Латвийской ССР очень близко от Скуодаса. Когда приедем к вам, после тебя возьмём и вместе поедем в усадьбу бабушки, Тылышки. Мы поедем осенью, потому что летом нам будет очень жарко, как и всем, которые едут с севера. Мы рады, что ты доволен велосипедом и что ты уже на нём катаешься. Летом научишься хорошо кататься на велосипеде. Ждём от тебя письма с отметками за третью четверть. Наверное, у тебя не будет ни одной тройки. По-литовски пишется «пранцузу калба», а по-русски пишется «французский», а не «пранцузский». В кино смотрели картины: «Воскресенье» по Толстому, «Евгения Гранде» по Бальзаку, «Солнечной долины серенада», «Джорджи» из шотландской жизни, «Капитанская дочка» по Пушкину, «Дама с собачкой» по Чехову, «Рапсодия» и много других. Бабушка очень любит ходить в кино. Как твои успехи в фотокружке? Передай
привет Бабушке, Дедушке, маме и Бируте. В следующий раз напишу дедушке ответ на его письмо. Крепко целуем тебя.
Твои тебя любящие, Бабушка и Дедушка.
Письмо из санатория
Томск, 21 марта 1962 г.
Дорогой Витя!
Как видишь, пишу тебе из санатория. Думал ехать в Крым, но в последний момент сказали мне, что мне юг противопоказан, и отправили в Томск, куда я прибыл 15‑го вечером. Пока я не привык к климату, я чувствую себя неважно. Сердце плохо работает. Да мне и скучно. Очень хотел бы тебя видеть. Как‑то глупо выходит, что ежегодно мечтаю о том, чтобы поехать в Кретингу, а в последний момент не выходит. Прошу тебя и дедушку мне часто писать, что мне доставит большое удовольствие. К сожалению, не мог получить этикеток от спичек. Передай привет бабушке, дедушке, маме и Бируте. Бабушке в Игарке сегодня исполнилось 60 лет. Напиши ей письмо и поздравь с 60‑летием.
Адрес: пиши Миркес Алине Кристовне, Игарка, Б. Театра, 29.
Крепко Тебя целую.
Твой Тебя любящий дедушка.
Мой адрес: Томск, Дачный городок, ул. Октябрьская
113, Санаторий Минздрава, Миркесу Д. М.
Примечание Витаутаса Миркеса. Очень важно отметить, как сердечно относилась ко мне дедушкина жена Алина, называя себя моей бабушкой, как её интересовали мои дела и успехи. Бывает часто, что даже родные бабушки так не относятся к своим внукам.
Из приведённого ниже письма видно, что у дедушки с бабушкой сложились очень близкие и тёплые человеческие отношения. Видно, как они искренне переживали друг за друга и помогали друг другу. Они оба
от всего сердца радовались, переживали за жизнь и успехи своих родных, в том числе и за меня.
Письмо Алины Кристовны Витасу
Игарка, 24 апреля 1962 г.
Дорогой Витя!
Спасибо, что поздравил меня с днём рождения. Скоро, то есть 5 мая, день рождения у дедушки, ему исполнится 67 лет. Обязательно пошли поздравительную телеграмму. Ему это будет очень приятно. Дедушка писал мне, что получил от Тебя хорошее письмо. Дедушка ещё тяжело болеет, но будем надеяться, что всё хорошо кончится, а иначе и быть не может. Я себя чувствую тоже неважно. 60 лет, из которых последние 21 прожиты на крайнем севере, дают себя чувствовать. Мы рады, что ты хороший мальчик и хорошо учишься. Твоя сестрёнка Ася учится посредственно, она учится тоже в музыкальной школе. Твой папа перешёл на второй курс института. Ему, конечно, тяжело, надо работать и учиться. Мы теперь все переживаем из-за здоровья дедушки.
Не знаю, как долго он там будет. Дорогой Витя, передай приветы Твоей бабушке и дедушке. Будь здоров.
Целую, Твоя бабушка.
P. S. Ася мне тоже пишет, ей уже 10,5 лет.
Последнее письмо от Алины Кристовны
Примечание Витаутаса Миркеса. Нам и сегодня очень трудно читать нижеизложенное письмо от Алины Кристовны, так как в нём она сообщает ужасное для всех нас известие, что умер мой дедушка в Томске. Для меня смерть дедушки была огромной утратой в жизни, так как я потерял очень близкого и родного для меня человека. Потерял человека, который очень любил меня и стремился весь остаток своей жизни приехать в Литву и встретиться со мной. Очень жаль, что судьба не позволила это сделать. Считаю, что многое из того, чего я добился в своей жизни, было достигнуто в том числе и благодаря моему дедушке. А сколько бы я получил от дедушки поучительного и полезного благодаря его жизненному опыту, если бы смог встречаться и беседовать с ним вживую, а не только в письмах…
Мне очень жаль, что после этого последнего письма больше никакой информации о дальнейшей судьбе Алины Кристовны у нас так и не появилось.
С 1942 года она жила в Хатанге, это ещё севернее Игарки. В 1949 году в Хатангу приехал мой дедушка, и с 1959 года у них началась совместная жизнь. 9 марта 1953 года они с дедушкой прилетели жить в Игарку, потому что мой отец тогда жил там. Позже семья моего отца выехала в Красноярск, и Алина Кристовна с моим дедушкой остались там жить вдвоём. Я почему‑то уверен, что в дальнейшем потомки Миркесов смогут найти данные о жизни жены Давида Миркеса, ведь именно она стала его близкой подругой и поддержкой и была с ним вплоть до последней минуты.
Читать её последнее письмо до сих пор очень волнительно — по этим словам, а особенно по приложенной бумажке очень чувствуется, что дедушка в последние дни своей жизни думал обо мне.
Игарка, 10 ноября 1962 г.
Дорогой Витя!
Много раз начинала Тебе писать и каждый раз откладывала. Не было это мне по силам. Ты, дорогой Витя, конечно, догадался, что случилось у нас большое несчастье. Наш дорогой дедушка ушёл от нас 27 июня в 7 часов утра в Томске в тубдиспансере. Его похоронили 28 июня в Томске на еврейском кладбище. Он в последнее время очень страдал, даже писать не мог. Последнее его письмо написано 7 июня, и я его получила 18 июня. В письме была положена эта маленькая бумажечка, и по ней Ты видишь, что дедушка думал о тебе последние свои дни. Письмо было очень неразборчиво написано, и это было 14‑е по счёту и последнее от него. Судьба очень жестокая, что не дала Вам обоим повидаться. Этого дедушка очень желал. Он очень и очень не хотел умереть. Когда Твой папа 20 июня был у дедушки, и он очень мучился, но всё‑таки он думал, что будет жить. Твоё письмо получила и фотокарточки, большое спасибо. Как мы вместе с дедушкой бы радовались, а я смотрю на тебя, и слёзы так и текут. Скоро приедет твой папа дом продать (дом на папино имя), и я отдам ему вторую фотографию. Я ещё останусь эту зиму здесь в Игарке. Некуда мне торопиться, и ещё не знаю, где буду жить. Вчера ровно год, как дедушку отвезли в больницу — как он заболел, и вчера исполнилось ровно 6 месяцев (9 марта), как я посадила дедушку на аэродроме на самолёт. Он полетел в Красноярск к папе, и 15 марта он уже прибыл в санаторию. Там ему стало всё хуже, и 11 мая его перевезли в Томск в тубдиспансер. Так как я сама болела, на похороны не могла полететь, и ещё теперь плохо себя чувствую У меня очень высокое давление, ниже 200 не бывает. Ужасные головные боли. Хожу в амбулаторию на уколы. Что же сделаешь, надо как‑нибудь жить.
Мне очень понравилось твоё письмо. Ты уже так самостоятельно можешь рассуждать, и главное, что ты хорошо учишься. В будущем году я выеду с Крайнего Севера. С 1942 года жила в Хатанге, это ещё севернее. Туда в 1949 году приехал дедушка, и с 1950 года началась наша совместная жизнь. В 1953 году 9 марта мы прилетели сюда в Игарку, потому что твой папа тогда жил здесь. Потом папина семья выехала в Красноярск, куда скоро уехал и твой папа, и мы с дедушкой опять остались одни. Итак, дорогой Витя, будущее лето мы увидимся. Пока с папиной стороны я одна тебе осталась. Только не унывай, придёт время, и всё наладится. Передай сердечные приветы твоей бабушке и дедушке. (У меня детей нету).
Любящая Тебя бабушка.
P. S. Жду от тебя письмо и прилагаю последний тебе привет от дедушки, саморучно написанный.
В конце листа письма белыми нитками иголкой в трёх местах была пришита полоска бумаги 1,5 на 13 см, на которой карандашом ещё более-менее разборчивым почерком написано: «Напишите Вите».
Моисей Миркес: образование, карьера и создание семьи в Красноярске
В каждой еврейской семье всегда уделялось большое внимание образованию детей. Образцом в этом отношении является мой дедушка Давид Максович. В Скуодасе он открыл свою аптеку, а когда был в ссылке в России, специальность фармацевта помогла ему выжить в тяжёлых условиях. После освобождения он снова продолжил работать в аптечном хозяйстве — в Игарке. Мой отец, депортированный в 13-летнем возрасте, благодаря своему большому упорству получил среднее образование, в промежутках приобрёл специальность помощника машиниста, работал кочегаром на корабле и впоследствии получил высшее образование. Он стал заместителем главного ревизора Красноярского пароходства и одним из главных специалистов в Советском Союзе по ревизионной работе в речном пароходстве. С ним считались и его очень уважали. Бывшему ссыльному всего этого добиться, конечно, было очень непросто.
В книге И. А. Булавы «Флотская судьба» подробно рассказано, как мой отец, Моисей Миркес, стремился к учёбе и получил высшее образование, построил карьеру в речном пароходстве и заслужил себе уважение, трудясь на разных должностях:
Иногда некачественный такелаж плота, когда обрываются продольные лежни, или ошибочный расчёт разводки, а то и неправильная расстановка буксировщиков приводят к разрыву плота и большим потерям древесины. И тогда в работу вступают коммерсанты и юристы. Кто окажется грамотнее и изворотливее, тот чаще и останется прав. В связи с этим особенно запомнилась деятельность Моисея Давыдовича Миркеса, крупнейшего специалиста по арбитражным процессам. Моисей Давыдович — почётный ветеран труда Енисейского пароходства, почётный работник речного флота России. Родился он в 1928 году. Трудовую деятельность начал тринадцатилетним подростком в июле 1941 года в тресте «Комилес» — работал сплавщиком леса, был мастером сплава. В 1947 году поступил учиться в школу ФЗО, после окончания которой с 1948 года трудился в Игарском порту — кочегаром парохода «Ижорец», старшим приёмосдатчиком, заместителем начальника порта. В 1958 году Моисея Давыдовича перевели в управление Енисейского пароходства коммерческим ревизором. В службе грузовой и коммерческой работы он был старшим инженером, заместителем начальника службы, пока в 1988 году не ушёл на пенсию. Но и после этого работал в пароходстве на разных должностях до 1996 года. Война помешала его учёбе, тем не менее уже намного позднее он пошёл в шестой класс вечерней школы. Получив среднее образование, поступил в Новосибирский институт инженеров водного транспорта, заочное отделение, факультет эксплуатации и в 1967 году закончил его. Моисеем Давыдовичем были разработаны договоры перевозок и буксировки плотов, которые обеспечивали интересы пароходства. На уровне Министерства речного флота он принимал участие в разработке Устава внутреннего водного транспорта СССР, Кодекса речного транспорта, правил применения тарифов и самих тарифов. Большинство его предложений вошли в указанные документы, что в конечном итоге обеспечило высокорентабельную работу пароходства, были доведены до минимума убытки от побочной, производственной, деятельности. В том, что касается толкования Устава внутреннего водного транспорта, Миркес — ходячая энциклопедия, к тому же его отличает богатейшая практика. Характер у Моисея Давыдовича крутой, но это не мешало ему не горячиться, доказывая истину, и он брал верх. Многие процессы были выиграны через арбитра благодаря ему. «Иски пароходства, где мы отстаивали выполнение плана перевозок, решались положительно», — вспоминает о своей работе в управлении Моисей Давыдович, — «а арбитражные претензии клиентуры к пароходству, в частности по авариям с плотами, по другим несохранным перевозкам, оставались без удовлетворения. А всё потому, что с занятыми на линии и с плавсоставом нами проводилась большая работа по выполнению требований Устава внутреннего водного транспорта СССР и подуставных правил. Большую роль в защите прав пароходства, в повышении качества перевозок, выполнении плана играли ветераны пароходства, под руководством которых мне посчастливилось работать. Моими главными учителями были Иван Павлович Яхонтов и Александр Иванович Краюхин, начальники службы грузовой и коммерческой работы, Деввора Станиславовна Деспот-Зенович, начальник юротдела, и другие, всех и не перечислить…»
До сих пор Моисей Давыдович Миркес стремится быть полезным речному флоту.
Отец любил анекдоты, знал многие в стихах и прозе и с удовольствием их рассказывал. Было интересно слушать и о его работе в порту в службе главного ревизора. Было заметно, что он увлечён своей работой и старается выполнить её как можно лучше. Наверно, его искреннее трудолюбие передалась и нам, его детям, внукам и даже правнукам. Мы все очень благодарны ему за это.
Мои встречи с отцом
Моя частая переписка с отцом началась перед моим студенчеством, около 1965 года. Мне и моей семье было очень приятно получать от него тёплые письма с новостями и рассуждениями о прошлой и настоящей жизни. Я чувствовал, что ему тоже нравилось получать ответные письма от меня и нашей семьи. Помещаю в этой книге несколько недавних душевных писем, где отец пишет нам о себе и о своей семье.
Когда я впервые ездил к отцу в 1968 году в Красноярск, я познакомился и с его супругой Наташей, и с их четырёхлетним сыном, моим братом Евгением. А спустя полгода после возвращения в Таллинн узнал, что Наташа родила прекрасных двойняшек Машеньку и Павлика, которые стали мне братом и сестрой.
Меня очень впечатлило путешествие по Енисею до Игарки, а потом поездом до Норильска, устроенное моим отцом. Семья отца жила тогда в однокомнатной квартире, а новую, побольше, они получили только после рождения двойняшек. Как мне кажется, самым счастливым временем в жизни отца стали годы, когда он женился на Наташе, у них родилось трое детей (Женя, Маша и Павлик), а позже появились внучки Саша и Аня. Конечно, отец надеялся на семейное счастье и после встречи с моей мамой, а позже и со второй женой. Но судьба распорядилась иначе. Депортация разрушила семейный уклад миллионов людей, их представления о жизни и личном счастье. Однако самое страшное — это то, что случилось со многими членами семьи Миркес в начале Второй мировой войны уже в 1941 году, когда людей в Литве убивали только за то, что они были евреями. Но «благодаря Сталину» мой дедушка и мой отец всё же смогли порадоваться некоторым счастливым моментам. И один из таких важных моментов — встреча моего отца с Наташей, создание с нею семьи и продолжение рода Миркесов на сибирской земле.
После встречи с отцом в 1968 году в Красноярске я виделся с ним ещё раз, в 1969-м, когда учился в Таллинне на третьем курсе института, а он ненадолго приехал в столицу Эстонии. Тогда папа познакомился с Лидой, мы уже дружили с ней. Ему было интересно увидеть старинный город, пообщаться с нами, посмотреть на нашу студенческую жизнь. Отец навестил в Таллинне тётю своей жены Наташи, но полноценной беседы не получилось, так как та была уже довольно пожилой и не знала русского языка. Позже отец был в командировке в Ленинграде (он старался совмещать командировки с поездкой к нам в гости) и заехал к сестре Лиды, Люсе. Познакомился с ней и с её дочкой Мариной и предложил Люсе вместе съездить в Эстонию, чтобы он смог познакомиться с родителями Лиды. Люся согласилась и поехала вместе с ним. Отец остался очень доволен этим знакомством, а Лидины родители впоследствии тепло отзывались о моём отце и были тоже рады этому знакомству.
Встречи моих родителей в Литве после ссылки
После расставания в 1946 году мои родители встречались ещё дважды в Литве.
Отец побывал у нас в Шяуляе в 1970-х годах, а затем поехал поездом к моей матери в Кретингу (это 120 км от Шяуляя). Там собрались все мамины родственники (были ещё живы мои дедушка и бабушка), и встреча прошла в основном в воспоминаниях о годах, проведённых в ссылке на севере России. Второй раз родители встретились у нас 22 января 1987 года на моё 40-летие: папа прилетел из Красноярска, а мама приехала со своей сестрой Марите. И снова разговор за столом шёл про годы, проведённые на севере. Правда, в то же самое время у меня и Лиды случилось большое несчастье — умер Лидин отец, Михаил Скворцов, и получилось, что мои родители приехали в дни похорон. Не передать словами, как Лиде и мне трудно было совместить эти два события. Но жизнь есть жизнь, и не всегда можно предвидеть, что произойдёт сегодня и завтра. Впоследствии и отец, и мать постоянно передавали через меня самые тёплые приветы и пожелания друг другу. Я считаю, что эти две встречи родителей как-то помогли им примириться с прошлым и спокойно жить дальше.
Другие поездки моего отца в Шяуляй
В следующий раз папа приезжал к нам примерно в 1974 году, ещё на старую квартиру. Он всегда привозил ценные подарки. Помню, в тот раз мы ходили с ним в ресторан, и Лида даже сказала мне: «Витас, какой твой отец обходительный и культурный, тебе до него далеко». А в 1984 году отец приезжал к нам со своей женой, и Лида познакомилась с Наташей, которая оказалась очень умной и приятной женщиной. Мы свозили их в свой сад показать ещё не законченный садовый домик, немного отдохнули, провели экскурсию по городу. Помню, как Наташа боялась скорости во время поездки на автомобиле, когда я сам был за рулём служебной «Волги».
Ещё пару раз мы встречались с отцом в Москве. В конце 1970-х он повёл меня в ресторан наверху Останкинской башни, который вращался вокруг своей оси. В то время за городом горели торфяники, и из-за дыма даже с высоты башни было сложно рассматривать панораму столицы. Ужин был замечательным. Больше ничего подобного я в жизни не испытывал, и самое ценное в этом воспоминании то, что со мной рядом был мой отец. А второй раз мы встретились в начале 1990-х, когда после директорства на заводе я уже занимался бизнесом. Благодаря хорошим связям в администрации в те годы я часто останавливался в гостинице Литовского представительства в самом центре Москвы, там были прекрасные условия для проживания и работы, некоторое время там даже располагался офис одного из наших предприятий. Так вот, то представительство славилось очень хорошим рестораном, куда я и пригласил отца на ужин. Так как мы никогда не жили вместе, все встречи с ним стали для меня яркими впечатлениями и глубоко укоренились в моей памяти.
Общение красноярских и литовских Миркесов
Нам с Лидой очень нравится фотография, на которой запечатлена наша встреча с красноярскими Миркесами. На ней мы все вместе в лесу около нашего сада выстроились под руководством Маши. У литовских Миркесов осталось неизгладимое впечатление от встречи с красноярскими родственниками. Я чуть ниже расскажу об этом подробнее.
До этого моя племянница Саша организовала приезд своего отца Павла и его жены Гали, а также своей тёти Маши в Европу. Они были и в Чехии, и в Австрии. На фото видно, какие у всех счастливые лица. Я горжусь Сашей: она не только сама добилась литовского гражданства (европейского), но и решила эту проблему для Маши и Павла. Двойное гражданство существенно облегчает поездки в Европу, и я надеюсь, мы будем чаще видеться.
В 2018 году Грета, дочка моего сына Римаса и невестки Ируте, впервые полетела в Сибирь: через Москву в Красноярск на 90-летний юбилей своего прадедушки Моисея Давыдовича Миркеса. Мой отец был единственным человеком, который легко общался с Гретой на литовском языке, так как она не знала русского, а могла говорить только на английском и литовском. Для Греты эта поездка стала очень ярким впечатлением и оставила множество хороших воспоминаний о Красноярске и его окрестностях, а главное — о встрече с родственниками по линии Миркесов. Мой отец был очень счастлив от встречи со своей правнучкой. Да и мы с Лидой тоже радовались, что Грета решилась на такую дальнюю поездку в незнакомую ей страну.
Вся наша семья всегда очень рада, когда к нам приезжают красноярские Миркесы. Когда я ещё работал на заводе «Нуклон», у нас побывал мой отец вместе со своей женой Наташей. Сейчас мы тоже с большой радостью принимаем гостей. Первой нас навестила моя племянница Саша, а затем благодаря её стараниям в Шяуляй приехала и моя сестра Маша. Позже у нас гостил вместе с Сашей её друг Джеффри из Голландии (теперь он уже её муж). Очень надеемся, что в скором будущем увидим у себя и других красноярских Миркесов.
А в октябре 2022 года мы с огромной радостью встретили моего брата Павла, который приехал к нам впервые, а также мою сестру Машу и племянницу Сашу. Об этом событии ещё будет сказано далее более подробно.
Встречи с братом Женей
С Женей в Литве я встречался два раза. Первый раз он приезжал к нам один в начале 1980-х годов. Мне и Лиде было очень приятно с ним познакомиться. Как и отец, он выглядел очень уравновешенным, рассудительным и умным человеком. Я горжусь тем, что мой брат достиг профессиональных вершин в своей научной и трудовой деятельности. Было отрадно следить за его успехами, узнавать, что он стал доктором наук, а впоследствии и профессором в своей области. Мне нравится видеть в Интернете его имя и фамилию, его статьи и книги. О нём пишут в России, Англии, Америке и других странах. В нашем роду Женя достиг на научном поприще самых больших высот, и его профессорское звание абсолютно заслуженно.
Второй раз он заезжал к нам в середине 1980-х вместе со своей женой Галей, оказавшейся очень милой женщиной; в то время она ждала ребёнка. Приятно было наблюдать, как они, словно голубки, ворковали друг с другом. Женя завязывал ей шнурки на ботинках, возвращались с прогулки из города они всегда с живыми цветами, а тогда была зима. Галя восхищалась теми букетами, которые Женя дарил ей в зимнее время. Встречались мы с братом и в 90-е годы в Москве, в Литовском представительстве. Сейчас они живут в Англии, где Евгений работает по специальности. Я изредка с ним переписываюсь. Недавно он написал, что издал свою книгу в Англии. Я уверен в том, что с Женей и его женой Галей мы ещё обязательно встретимся у нас в Литве в Шяуляе. Он обещал приехать, когда сможет. Мы с Лидой будем очень рады их встретить. Брат прислал нам ссылку на видео в Интернете, и мы увидели прекрасное выступление его дочки Ани, экспрессивно исполняющей экзотический танец. Видно, что она талантлива. Мы знаем, что Аня вышла замуж, а может быть, Женя с Галей уже стали молодыми дедушкой и бабушкой. Я рад, что, приезжая в Красноярск, Женя всегда навещает ближайших родственников: отец с удовольствием сообщал мне об этом в письмах. Очень хотелось бы, чтобы встречи наших семей происходили чаще и мы могли бы ещё больше сблизиться.
Встречи с Сашей, дочкой моего брата Павла и Инессы
В 2016 году мы впервые принимали в гостях мою племянницу Сашу. Она в то время жила и работала в Праге в Чехии и нашла хороший вариант получения гражданства Литвы и Европейского союза. По законам нашей страны она имела право на гражданство как внучка сосланного в своё время гражданина Литвы Моисея Миркеса. Для этого необходимо было получить подтверждающие документы и справки из архива Литвы. Это также должно было помочь Саше в поездках по Европе и в Россию. Она очень энергично взялась за эту задачу и выполнила её, а мы оказали ей помощь. Процесс получения гражданства занял один год. Саша была очень довольна и горда тем, что достигла цели и стала жительницей Евросоюза. В первые приезды Саши мы побывали с ней в Симнасе, где родился мой отец и её дедушка Моисей Миркес, а также в Скуодасе, где он провёл детство со своими родителями и откуда был сослан в Россию. Лида заранее созвонилась с заведующей музея города Скуодаса и договорилась о нашем визите. На экскурсии сотрудница музея рассказала об истории жизни евреев в предвоенном Скуодасе и проводила нас к месту, где когда-то был дом моего отца. Сейчас на том месте построен другой дом.
Гостила Саша и у Виргиса в Вильнюсе, он познакомил её со своей женой Гедре и своими детьми Йокубасом и Евой, показал ей Вильнюс и Тракай. Нам хотелось, чтобы Саша увидела ещё больше красивых и примечательных мест в Литве, однако её поездки были короткими, 2–3 дня в конце недели, когда она была свободна от работы. Но она говорила, что хотела бы подольше пообщаться с нами. Однажды я даже ходил с ней за грибами в лес недалеко от нашего сада. Саша нашла красивые подосиновики и очень этому обрадовалась, сразу отправила фотографию с грибами маме и отцу в Красноярск. Племянница показалась нам целеустремлённой, невероятно умной и деловой девушкой, стремящейся сделать удачную карьеру в своей профессии. Она рассказывала об успехах на работе и как ей приходится учиться чему-то новому, участвовать в конкурсах, чтобы и дальше подниматься по карьерной лестнице. Помню, как я её уговаривал хорошо подумать, что в жизни более важно для женщины — карьера или семейное счастье. Может быть, эти разговоры повлияли на её дальнейшую судьбу. Она познакомилась с молодым человеком Джеффри из Голландии и вскоре переехала к нему жить и работать. Пару лет назад Саша приезжала к нам вместе с Джеффри: он нам очень понравился, и было видно, как они любят друг друга.
Как-то Саша собралась к нам в гости и сообщила об этом своему пражскому сотруднику: — Я поеду в Литву. А он отвечает: — И я тоже поеду в Литву. Она говорит: — Я еду в Шяуляй. Он: — И я в Шяуляй. Она говорит: — Я еду к дяде. Он отвечает: — И я к дяде. Она говорит: — Так что, у нас один дядя?
Выяснилось, что тот родственник коллеги знает меня и в своё время тоже работал на заводе «Нуклон». Как тесен мир!
Общаясь с племянницей, я не раз напоминал о важности еврейской крови в наших жилах. При этом я подчёркивал, что неважно, сколько процентов этой крови течёт в нас, самое главное — сколько хорошего она нам даёт. Говорил Саше, что она такая умная и успешная в своих делах во многом благодаря еврейской крови. Говорили мы и о трагедии еврейского народа в Литве во время войны. Я написал потом отцу в Красноярск, как вёл с Сашей разговор о еврействе и его судьбе в нашей стране, и папа в письме благодарил меня за эти беседы.
Сашина мама Инесса передала нам в подарок две книги по садоводству и выращиванию овощей, за что мы ей очень благодарны. Надеемся, что когда-нибудь встретимся с ней и познакомимся — через Сашу передали приглашение Инессе приехать к нам. Уверены, что её мама такая же умная и приятная в общении, как и её дочка.
Встречи с сестрой Машей
Примерно четыре года назад меня очень обрадовала Саша, когда сообщила, что приезжает в Шяуляй вместе с моей сестрой Машей. Мы встретили их на автовокзале. Помню, что я сильно волновался и в то же время радовался, когда впервые в жизни встретился с Машей. Из рассказов Саши мы знали, что Маша очень простой и душевный человек и все Миркесы любят её за человечность и готовность всегда прийти на помощь. Мы узнали, что у Маши есть учёная степень кандидата наук, приблизительно поняли, чем она занимается и как зарабатывает на жизнь. Правда, было не совсем понятно, как она в своей работе с таким успехом добивается результатов по развитию детей и взрослых на разных курсах и в специализированных летних лагерях. Но мы поняли, насколько она хороший человек. После встречи нас приятно удивило, что в реальном общении она ещё лучше, чем рассказывала Саша. Как только Маша вошла в нашу квартиру, тут же предложила свои услуги Лиде на кухне. Мы сразу нашли с ней общий язык. Я удивился, что она, не зная литовского языка, быстро нашла контакт и начала играть с Евой и Йокубасом, детьми нашего сына Виргиса. Потом Машу и Сашу повезли на Крестовую гору около Шяуляя — главную достопримечательность нашего города, которая гостям очень понравилась. Маша сделала впечатляющие фотографии. В Шяуляе мы все вместе немного погуляли по городу и посидели в кафе в центре. Я не упустил возможности поговорить с родственницами о нашем роде и неоднократно подчеркнул значимость еврейской крови в жизни всех красноярских и литовских Миркесов. Между нами завязался разговор о том, насколько сильно укрепились взаимоотношения между двумя ветвями рода Миркесов. Мы все выразили надежду, что будет хорошо, если в Литву приедут и мой брат Павел со своей женой Галей, и Сашина мама Инесса. Когда Маша рассказывала, чем занимается в жизни, мы удивлялись тому, как много она работает и разъезжает по всей России и даже за её пределами. Я и Лида были очень благодарны Саше, что она воплотила мою мечту и организовала встречу Маши с нашей семьёй. Сестра показала в телефоне, где и как живёт в Томске, а также фотографии своих подруг, и по этим снимкам видно, какие тёплые у неё отношения с друзьями. Из-за разницы во времени Красноярска и Европы Маша вставала очень рано и занималась своей работой. То, что она необычайно хороший и контактный человек, доказал наш пугливый кот Пукас (Пушинка). Он сразу признал её и мешал ей работать утром на компьютере, когда она уединялась, чтобы спокойно заняться делами. Обычно наш кот прячется от всех незнакомых людей, и его ничем не приманишь. А Маше и приманивать не надо было.
Моя вторая встреча с Машей состоялась уже в компании Саши и Джеффри. Видно, что сестра любит природу, ей очень понравилось в нашем саду: особенно то, что с двух сторон его окружает настоящий лес. Мы с удовольствием жарили шашлыки и дышали свежим воздухом. Маша снова работала ночью и играла с нашим котом. А потом предложила перенести обед с веранды в лес на траву, что все приняли с энтузиазмом. Организовала фотосессию: меня посадила на стул в центре, а вокруг Маша, Саша, Джеффри, Витукас, Ируте и Лида. Эта фотография полюбилась всем: у нашего отца она висела на почётном месте в его комнате в Красноярске, у нас она тоже находится на видном месте, мы с Лидой часто рассматриваем её. На этот раз все снова поехали на Крестовую гору — видимо, Маше она запала в душу, к тому же в этот раз погода была значительно лучше.
Пару лет назад ранней весной Маша приезжала к нам уже одна. Она была в командировке в Латвии, в Риге, и договорилась с водителем, чтобы тот привёз её в Шяуляй. Гостила она у нас очень недолго. В этот раз мы с ней ещё больше сблизились и много общались. Тогда я впервые поделился с ней давней своей мечтой — написать книгу о роде красноярских и литовских Миркесов. Я предложил ей подумать о том, чтобы написать и выпустить эту книгу в России на русском языке. Пообещал, что финансирование возьму на себя. Маша ответила: «Мысль интересная, надо подумать». На следующий день, когда была уже в Риге, она позвонила мне оттуда и сказала, что хорошо всё обдумала и тоже увлеклась идеей написания книги и возьмёт на себя все организационные вопросы. После того разговора она действительно энергично организовала процесс, нашла писательницу, свою давнюю знакомую Ксению Белову, которая нам нравится. В создание этой книги вложился и мой отец, и почти все литовские Миркесы, написавшие свои жизненные истории. Эта книга вышла весной 2021 года.
Обо всех встречах красноярских и литовских Миркесов я подробно рассказывал в письмах отцу. И он как родоначальник очень доволен укрепляющимися отношениями. Я и сам мечтаю и хочу, чтобы наши семейные связи только укреплялись, и даже когда меня не будет, я бы хотел, чтобы отношения всех Миркесов поддерживались и развивались.
Безвременный уход нашего отца
Для каждого ребёнка очень важно общение с его отцом. Всю свою жизнь я чувствовал большую необходимость с кем-то посоветоваться при принятии решений в учёбе, работе и других значимых вопросах. К сожалению, у моей мамы не было необходимого образования, отчим остался для меня чужим человеком, и родного отца мне очень не хватало. Я завидую белой завистью Жене, Павлику и Маше, что с ними всё время рядом был такой замечательный человек, как наш отец. Они всегда могли поговорить с ним на любые темы, обсудить какие-то проблемы. А я должен был решать всё сам. Тем более важным событием стала для меня уже в студенческие годы моя личная встреча с отцом и восстановление отношений с ним. И до сих пор я счастлив тем, что в итоге мы стали с ним по-настоящему близкими людьми — как отец и сын.
Я изучал материалы по уголовному делу и депортации семьи Миркес из Литвы в Россию в июне 1941-го, когда 13 мая 2021 года мне позвонила моя сестра Маша и сообщила, что ночью на руках Павла умер наш отец. Ему было почти 93 года. В тот же день после известия о смерти мне пришло и его последнее письмо, отправленное из Красноярска почтой 15 апреля 2021 года, с его фотографией. На присланном фото отец выглядел довольно здоровым и жизнерадостным человеком. Посмотрев на эту фотографию и прочитав последнее его письмо, я никак не мог поверить, что он уже покинул этот мир. За месяц до его смерти Маша прислала нам по электронной почте две фотографии, где отец держал в руках нашу общую, только что вышедшую книгу «Истории семьи Миркес». Маша сказала, что за месяц он прочёл её от начала до конца раз пять — с большим вниманием, интересом и удовольствием. Я ранее писал отцу, что собираюсь выпустить и свою книгу, где изложу более подробные факты из жизни Миркесов и Савицкасов в буржуазное и советское время и помещу свои философские размышления о сущности жизни и о её перспективе.
Отца похоронили в Красноярске рядом с его женой Наташей 15 мая 2021 года. Маша попросила меня, как теперь уже самого старшего из Миркесов, выступить по видеосвязи на поминках. Для меня это был невероятно волнительный момент, поэтому я извинился, что говорить мне об ушедшем отце очень трудно и мне придётся опираться на заранее написанный текст. Мы потеряли очень близкого нам человека. Коротко рассказывая о его жизни, я выделил три периода. Первый — его беззаботная и счастливая детская жизнь в Скуодасе в Литве, которая продлилась только 12 лет, а потом резко изменилась 14 июня 1941 года. Второй период — ужасное и трудное время ссылки, смерть матери, постоянная борьба за признание невиновности. В эти годы у отца случались и проблемы счастья, но они были очень короткими. Третий период — когда с него сняли все обвинения, папа встретил свою будущую жену Наташу, и она подарила ему троих детей, опору дальнейшей счастливой жизни. В своей речи я напомнил всем о том, что отец завещал нам поддерживать друг друга и укреплять отношения между всеми красноярскими и литовскими Миркесами. Как в своей поминальной речи, так и сейчас я пишу: Моисей Миркес заслуживает в наших сердцах вечной памяти о нём.
В письме, написанном мне за месяц до своей кончины, он поздравил нас с Лидой с годовщиной свадьбы (18 апреля 1970 года) и пожелал нам дальнейшей счастливой жизни. Также его заинтересовало, что мы сумели получить полное уголовное дело из Особого архива Литвы на его отца, мать и на него самого. Он пишет, что в документах содержится страшный материал. По его словам, всё было сфабриковано, чтобы убрать порядочных людей. В письме отец говорит, что очень ждёт мою книгу о прожитых годах. И добавляет: «Когда просматриваю первую книгу о нашей семье, то страшно даже вспоминать, как мне пришлось жить в годы репрессий в тяжёлых, страшных условиях. Прямо страшно».
Накануне в своём письме я просил его быть осторожным и беречь себя от мировой заразы COVID-19. Папа ответил, что ему противно смотреть, как люди ходят в масках, опасаясь заразиться. Поэтому он не выходит из дома на улицу, а только гуляет во дворе своего дома, чтобы не заболеть. Дома он ходит без маски, хотя та и лежит у него в шкафу. Похвалил нас, что мы сделали прививки от COVID-19, хотя сам он от этого отказался, потому что не выходит из дома, да и боится прививок. Отец похвалил нас за то, что мы часто выезжаем в сад и в тёплое время года живём там постоянно.
Помещаю в этой книге его письмо от 31 января 2020 года, в котором он рассказывает о происхождении рода Миркесов, о страшной судьбе евреев в Литве в начале Второй мировой войны, о его горячем желании, чтобы Миркесы Литвы и России и дальше поддерживали между собой хорошие отношения. Мне кажется, это письмо в какой-то мере является его завещанием роду Миркесов.
Ваше письмо от 05 января 2020 г. очень долго шло. Я всегда очень рад получать ваши письма. Я своё письмо начинаю с тех вопросов, что ты мне задал. Миркесы в Симнасе жили всё время. Мой дедушка Мордехай Миркес был главой этой семьи. Они занимались мелкой торговлей. У них был маленький магазинчик в том же доме, где и жили. Моя мама родилась в семье Фрейдов, которые имели землю под Симнасом, это Spernios dvaras (усадьба Сперниос), так она называлась. Насколько я слышал, род Миркесов перешёл в Литву из Германии, а главой там был Мириам. Там фамилий не было, и говорили, чей ребёнок (на идиш «Мириам кинд» и получилось «Миркес кинд»). Я с тобой согласен, что в нашей семье было много горя и хотелось бы чтобы мы жили вместе и ты рос с мамой и мною. Да.
У меня есть 5 замечательных детей и первый, старший из них ты. Ты прав, я очень рад, что все Миркесы Красноярска и Литвы очень сблизились. И я считаю, что главное лицо сближения — это ты, мой дорогой сын. Я поддерживаю идею книги о судьбе Миркесов. Машенька тоже принимает большое участие в этом. Я тоже очень рад, что у тебя с Машенькой сложились хорошие отношения. Она очень рада общению с тобой. Об убийстве литовцами в Литве — давай не будем об этом рассуждать. Конечно, не все литовцы в этом виноваты. Многие литовцы спасали, прятали евреев. Но были и фашиствующие негодяи, которые делали эти зверства. Режим Сталина арестовал моего отца и посадил в лагерь, а меня с мамой сослали в Коми на север. Ты прав, что в какой‑то степени это спасло нас от неминуемой гибели от убийц. Ещё раз подтверждаю, что это в какой‑то степени есть большое счастье, что это повлияло на судьбу Миркесов и мы имели возможность развивать род Миркесов. И ещё раз повторяю, что это очень много благодаря тебе, что литовские Миркесы такие. Очень рад буду увидеть книгу о жизни Миркесов. Дорогие мои любимые дети, я очень рад, что жизнь сложилась так, и что мы с вами дружно живём и любим друг друга.
Привет всем литовским Миркесам и привет от красноярских Миркесов.
Целую, папа