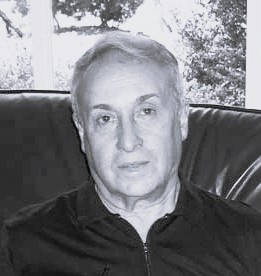Я сделал меньше, чем мог, и меньше, чем ожидал
Отчет для друзей по случаю собственного 70летия
Необходимая преамбула
То, что вы прочитаете здесь — краткий отчет о поездке длинною в жизнь. Хотя отчет содержит исключительно производственные результаты и оставляет за скобками личную жизнь автора, его материалы носят очень личный и чувствительный к внешнему потреблению характер. Короче говоря, это все только для близких, искренних друзей.
Борис Пастернак писал: «Но пораженье от победы ты сам не должен отличать». Я, вероятно, нарушу здесь эту заповедь интеллигентного человека в расчете на доброжелательность и понимание тех, для кого пишу. Впрочем, мои поражения, о которых я откровенно рассказываю, столь глубоки, что никакие победы не выглядят уж очень значительными вершинами.
Слова и формулы
Последние десять лет моя творческая жизнь состояла из двух слабо коррелированных в мыслительном пространстве, но неумолимо пересекающихся во времени процессов: дилетантской литературно-публицистической деятельности и профессиональной научной работы — право же, слова и формулы.
Что касается слов, то здесь я склонен оценить свои результаты слегка переиначенной цитатой из Владимира Войновича — «я сделал меньше, чем мог, но больше, чем ожидал». Судите сами — я написал за это время пару дюжин очерков, напечатанных в газетах и журналах почти всех континентов, и четыре книги: «Письма близким из ХХ века», «Проигранная война», «Ось всемирной истории» и «Старческая болезнь левизны в либерализме». Две из них изданы на русском языке дважды, и три переведены на английский язык. Сейчас в работе третье издание «Оси» на русском языке и второе, расширенное ее издание на английском. Вероятно, я мог сделать больше, но безусловно и совершенно искренне могу сказать — я не ожидал, что мои книги будут востребованы читателями и даже вызовут определенный интерес, который наблюдается в последнее время.
Первую свою книгу «Письма близким из ХХ века» я писал для узкого круга близких мне людей и друзей, писал исступленно, яростно и упорно, опасаясь, что не успею ее дописать. По-видимому, когда пишешь в таком состоянии, то невольно что-то получается, — это, на мой взгляд, лучшее из опубликованного, об этой книге мне хочется говорить. Я верю, что никого из читавших «Письма» не оставила равнодушным новелла «Смерть велижс- кого резника» — трагическая история ленинградской блокады и мученической смерти моего деда Исаака Окунева, история, как бы озвученная великой Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича. Для многих неожиданным информационным потрясением оказалась новелла «Есть ли Бог или Почему Россия проиграла Америке космическую гонку столетия». Ценители микроминиатюр не прошли мимо главы «Два тысячелетия в миниатюрах». Несколько глав этой книги составили основу более поздней «Оси всемирной истории». И тем не менее — такова, вероятно, авторская планида — эта моя лучшая книга пользуется наименьшим читательским спросом на фоне «Оси всемирной истории» и особенно «Старческой болезни левизны в либерализме».
Что касается формул, то здесь я склонен оценить свои результаты парадоксальным утверждением, прямо противоположным тому, что сказано о словах, — я сделал больше, чем мог, но меньше, чем ожидал.
Разве можно сделать больше, чем ты мог сделать, — возразят многие. Да — можно, и в моем случае это очень просто объясняется тем вызовом, который предъявила мне иммиграция в США.
Перед отъездом из России в конце 1992 года я был типичным боссом — начальник научно-исследовательской лаборатории Передачи дискретной информации при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича плюс генеральный директор частного производственного предприятия «Радиотелеком». Моя научная карьера осталась позади, а обкатанные опытом навыки сводились к умению распределить работу среди подчиненных, убедить их хорошо работать, а затем эффектно представить заказчикам полученные результаты. В Соединенных Штатах я поначалу имитировал бурную бизнес-деятельность, затем пытался обустроить себе тихую академическую жизнь в каком-нибудь университете. Потерпев сокрушительное фиаско и в том, и в другом, я, в конце концов, был нанят рядовым инженером в знаменитую лабораторию Bell Labs не менее знаменитой фирмы AT&T в штате Нью-Джерси.
Никогда не забуду свой первый рабочий день в Bell Labs. Мой начальник — человек немолодой и весьма доброжелательный — сначала представил меня, как ученого из России, сотрудниками своей лаборатории (сплошь в возрасте моих детей), затем показал мое рабочее место в виде пустого стола с компьютером, разъяснил, что мне надлежит рассчитать оптимальные параметры комбинированной спутниково-наземной системы мобильной радиосвязи (впоследствии я узнал, что система предназначалась для связи с американскими войсками в Боснии), объяснил, где находятся библиотека и столовая, посоветовал, не колеблясь, задавать ему любые вопросы и... ушел. Я тупо уставился на выключенный компьютер, о котором знал главным образом то, что для его включения следует нажать кнопку с надписью Power. Я начинал понимать масштабы того вызова, который предъявила мне жизнь.
Работа в Bell Labs была изнурительной. Нужно было выдавать реальные результаты, одновременно осваивая компьютер, новую технологию мобильной связи (в Bell Labs тогда разрабатывалась первая в мире система сотовой радиосвязи на базе широкополосных сигналов с кодовым разделением — CDMA), малознакомую американскую техническую терминологию и... английский язык. На первых совещаниях я не понимал почти ничего — технические аббревиатуры, которыми окружающие свободно оперировали, были мне незнакомы. Сложность состояла еще в том, что поначалу у меня не было в Bell Labs таких друзей, к которым можно было бы обратиться за помощью, не опасаясь непонимания и даже издевок.
Случались настоящие стрессовые ситуации.
Однажды мой начальник прибежал запаренный и сказал, что через два часа у нас будут заказчики из морского флота и что нужно срочно рассчитать, как далеко от берега можно принимать сигналы наших новых наземных радиостанций. Убегая, он добавил: «Результаты нужны в виде компьютерных таблиц и графиков». У меня от ужаса волосы встали дыбом — формулы распространения радиоволн над морской поверхностью я не помню, и как все это сделать за 2 часа не представляю. Побежал в библиотеку, взял какие-то толстенные справочники — на это ушло полчаса. Начал нервно и торопливо листать незнакомую литературу, ничего подходящего не находя... Потом взял себя в руки, сжал зубы и подумал: «Я же, черт возьми, слушал в Ленинграде лекции профессора Долуханова, и у меня в ящике стола лежит его книжка «Распространение радиоволн». За несколько минут до назначенного времени таблицы и графики были готовы — зависимости дальности связи от мощности передатчика, скорости передачи данных, параметров антенн. Начальник недоверчиво и удивленно просмотрел мои материалы и спросил: «Откуда ты это взял?». Я молча постучал пальцем по своему лбу и ничего не сказал ему о лекциях профессора Долуханова.
В другой раз я докладывал на совещании с заказчиками результаты исследования альтернативных вариантов построения спутниковой системы связи. Уже через несколько минут я почувствовал, что моя замедленная манера изложения — следствие плохого английского — раздражает деловых слушателей, привыкших к быстрой американской речи. От волнения, вызванного отсутствием контакта с аудиторией, я стал говорить еще хуже и еще медленнее. Назревал скандал, и тогда я, будучи почти на грани нервного срыва, прервал свой доклад и очень, очень медленно произнес: «Джентльмены, я понимаю, что моя медленная речь не нравится вам. И тем не менее, я прошу и вас понять, какой процесс происходит в моей голове, прежде чем я произношу очередное предложение. Сначала я составляю его на русском языке, затем перевожу на английский, и только потом пытаюсь произнести с минимальным акцентом. Если вы примете во внимание все это, то, безусловно, сочтете, что я говорю не так уж медленно». Все заулыбались, наступил перелом, и я весьма успешно довел свою презентацию до конца. После доклада один крупный калифорнийский бизнесмен дал мне свою визитку и сказал: «Если вас интересует работа в Силиконовой долине, пришлите мне резюме».
Я вспоминаю жесткую школу Bell Labs, как осознанную необходимость, как то, без чего невозможно было принять вызов иммиграции. Да, к тому же, именно в Bell Labs пришло ко мне одно из тех озарений, которые нечасто посещают ученого в течение всей его жизни. Но об этом позже.
Потом работал я в нескольких известных американских фирмах: General DataCom, РСТе1, Symbol Technologies, Motorola. Нигде у меня не было привилегии тратить время на самообучение — все необходимое новое приходилось осваивать на ходу, а еще правильнее — на бегу. Везде было трудно, но все же легче, чем в Bell Labs. Маховик иммигрантского вызова начинал раскручивать скрытые возможности личности. За десять последующих лет я написал на английском и издал монографию «Phase and Phase-Difference Modulation in Digital Communications» (Artech House, Boston-London), заявил и получил с полсотни патентов США, участвовал в разработках на передних рубежах современной науки и техники — последнее поколение компьютерных модемов, первые высокоскоростные системы передачи данных в сети Интернета, первые мобильные системы радиосвязи в локальных цифровых сетях, первые системы идентификации объектов с помощью радиоизлучений.
Вывод же таков — не было бы американского иммигрантского вызова, закончилась бы моя научная карьера лет двадцать тому назад, закончилась бы не только без видимых сожалений, но даже и без малейшей потребности в ее продолжении. Это дает мне основание претендовать на справедливость первой части утверждения — я сделал больше, чем мог, но меньше, чем ожидал.
Вторая часть этого утверждения коренится в надеждах далекой молодости, когда я, выпускник ЛЭИС имени проф. М.А. Бонч- Бруевича, был оставлен для научной работы на кафедре Теоретической радиотехники, которую возглавлял тогда человек выдающегося интеллекта — Александр Михайлович Заездный.
Первые мои шаги в науке были обнадеживающими и впечатляющими. Еще будучи студентом, я разработал метод программирования для одного специального класса бурно развивавшихся тогда вычислительных машин — цифровых дифференциальных анализаторов (ЦДА). Вместе с моим научным руководителем Львом Моисеевичем Гольденбергом мы опубликовали статью «Программирование для цифровых дифференциальных анализаторов» в ведущем академическом журнале СССР «Автоматика и телемеханика». Под руководством Льва Моисеевича мы сделали тогда одну из первых цифровых специализированных машин — ЦДА «Интеграл». Среди разработчиков «Интеграла» были молодые инженеры Лева Рахович, Миша Поляк и Гена Липчин — мои первые инженерные наставники.
Вспоминаю сдачу «Интеграла» комиссии Министерства Связи, которую возглавлял Виктор Николаевич Смирнов — личность незаурядная и даже феерическая. Виктор Николаевич сначала потребовал запрограммировать дифференциальное уравнение второго порядка. Я нервно набрал программу на пульте, установил коэффициенты, после чего он сам нажал кнопку пуск, потребовал удалить всех из помещения, собственноручно закрыл и опечатал комнату. Пока машина работала без моего присмотра, а я сам жутко нервничал, Виктор Николаевич послал своего юного помощника Витю Цирлина (впоследствии известного специалиста по спутниковой связи) за водкой. Осушив поллитра и вскрыв запечатанную комнату, Виктор Николаевич потребовал распечатку результата и таблицы тригонометрических функций Брадиса. Держа в одной руке распечатку, а в другой таблицы Брадиса, он проверял точность работы машины — результаты совпали с точностью до четвертого знака. Тогда Виктор Николаевич торжественно подписал акт приемки и предложил всем выпить вместе, что мы, конечно, немедленно сделали в ресторане «Кавказский» на Невском проспекте.
Да, мы с Л. М. Гольденбергом — моим первым научным наставником и другом — фактически стояли тогда у истоков цифровой обработки сигналов, но кафедра приняла решение сосредоточиться на цифровой радиосвязи, и сразу же после защиты диплома я был назначен руководителем исследовательской группы в этой новой области.
Поначалу моя научная карьера развивалась стремительно: кандидатская диссертация, начальник отраслевой научно-исследовательской лаборатории, первая в мире монография по теории фазоразностной модуляции, несколько монографий по теории связи в центральных издательствах, статьи, доклады, аспиранты, совещания в высоких инстанциях, ранняя известность... (Как-то на всесоюзной конференции в Новосибирске ко мне подошел молодой человек моего возраста и спросил: «Это правда, что вы Окунев?». Убедившись, что это так, он бесхитростно заметил: «Интересно, а я думал, что вы давно умерли».) Но главное было в другом — в возрасте двадцати пяти лет я набрел на действительно интересную идею — это был мой звездный час. А.М. Заездный с присущей ему красочностью восторженно рассказывал коллегам о моем изобретении, и в коридорах ЛЭИСа тогда говорили: «Окунев придумал новый вид модуляции».
Я был в те годы наивным молодым человеком, я думал, что у меня нет и не может быть врагов, потому что я делал людям только добро. Будущее виделось мне в розовом свете, и я ожидал, что сделаю в науке больше, чем получилось на самом деле, даже с учетом неожиданного и яркого американского продолжения. Вот почему я говорю, что сделал в науке меньше, чем ожидал. С середины 70-х моя научная карьера в бывшем Советском Союзе не просто перестала развиваться, а правильнее будет сказать — была резко и довольно грубо остановлена. Внешние силы и обстоятельства безусловно способствовали этому, но я не хотел бы винить никого, ибо наша судьба есть продолжение нашего характера — сам виноват.
Впрочем, существует ли на самом деле объективная оценка того, что мы сумели сделать в науке? Ученые звания и награды, чествования и банкеты, известность... Каждый ученый в глубине души знает цену всем этим внешним атрибутам успеха.
Иногда полагают, что публикации и количество ссылок на них определяют рейтинг ученого. Этот показатель у меня не так уж плох — дюжина монографий и учебных пособий по теории связи, несметное число статей и патентов, ссылки на них в научных статьях и учебниках по всему миру.
Мне нравилось писать книги, и выход каждой новой книги в свет был праздником. Мои книги обычно раскупались в Советском Союзе по заказам еще до их появления в магазинах. Они до сих пор используются инженерами и преподавателями. Недавно я узнал, что мои монографии по теории фазо-разностной модуляции и учебные пособия по кодированию сигналов используются при обучении студентов в университетах Израиля — конечно, это порадовало меня. Бывали и анекдотические случаи. В 1976 году вышла в свет небольшая книга «Принципы системного подхода к проектированию в технике связи» в соавторстве с моим аспирантом Виктором Плотниковым. Через некоторое время мой знакомый из одного военного исследовательского института рассказал, как эта книга помогла институту выполнить годовой план. Оказывается, отдел моего знакомого сдавал большой отчет по разработке какой-то секретной системы радиосвязи, но начальник института забраковал работу на том основании, что в ней нет системного подхода (в те годы слова «системный подход» были в моде). «Сначала мы не знали, как выкрутиться, — рассказывал мой знакомый — но потом кто-то вспомнил о твоей новой книге по системному подходу. Мы перепечатали несколько глав из нее в наш отчет — генерал остался довольным, и годовой план был выполнен».
Другой подход к рейтингу ученого основан на оценке эффективности созданной им научной школы — количестве и достижениях его учеников. Я, к сожалению, не вел скрупулезного учета карьеры своих прямых аспирантов, студентов и косвенных учеников, которые сейчас разбрелись по всему миру, но знаю определенно, что многие из них занимают ныне ведущие позиции в радиотехнической промышленности и в академической сфере, имеют ученые степени и профессорские звания. Вот только один пример — моя ученица Люба Беркман защитила докторскую диссертацию, получила кафедру в Киевском техническом университете, имеет немало своих аспирантов. Недавно я узнал, что Любовь Наумовна Беркман назначена директором института, объединяющего учебную и научную работу нескольких кафедр университета в области техники связи.
И тем не менее, когда ученый пытается отыскать в своей творческой жизни ключевые события, скрытые от посторонних моменты истины, он вспоминает не триумфальные защиты диссертаций, не награждения и банкеты, не публикацию книг и даже не достижения своих аспирантов, а те редкие озарения, когда он действительно нашел неизвестный никому самородок. Таких звездных часов в жизни каждого ученого, честно говоря, оказывается не так уж много, даже если он признанный и маститый. Боюсь разочаровать моих друзей, но я насчитал у себя всего четыре настоящих озарения — факт достаточно банальный. Уникальным в этих моих озарениях оказалось, однако, то, что в Америке нашелся мой научный двойник, который, не зная меня и до поры до времени не подозревая о моем существовании, с поразительной последовательностью повторял мои результаты, подтверждая тем самым их истинность — этим человеком был всемирно известный специалист по цифровой радиосвязи доктор Марвин Саймон.
Краткую историю этой гонки я расскажу ниже, но прежде — о моем первом опыте соперничества с Америкой.
Как мы в ЛПДИ перегнали Америку
В этом 2007 году исполняется ровно 50 лет с того момента, когда Коммунистическая партия Советского Союза поставила перед советским народом грандиозную задачу — «догнать и перегнать Америку». Тогдашнему советскому вождю Никите Хрущеву чрезвычайно понравилась американская кукуруза, и поначалу он велел догнать Америку по кукурузе. Поскольку, однако, возможность (и даже неизбежность) «перегнать» Америку следовала непосредственно из марксизма-ленинизма, то он, пораздумав, обобщил пример с кукурузой на все сферы партийной деятельности и велел «догнать и перегнать Америку» по всем статьям, но в первую очередь по зерну, мясу и молоку. Шибче всего пошел перегон по мясу на душу населения, ибо советские быки и коровы не оказали никакого сопротивления политике родной партии. Один провинциальный партийный руководитель областного масштаба, буквально поняв указание вождя, решил не тянуть волынку с догонянием, а перегнать Америку по мясу немедленно и сразу. План у руководителя был мудр и вместе с тем прост, как все мудрое, — он приказал колхозникам зарезать в одночасье не только всех наличных быков и телят обоего пола, но и всех дойных коров. Догнать Америку таким способом оказалось возможным, но вот перегнать все равно не вытанцовывалось. И тогда наш герой придумал воистину гениальный ход — он послал своих подручных в соседние области с заданием скупить у тамошнего населения ихний скот. Сказано — сделано, и скупленную скотину тут же отправили под нож. Суммарный эффект превзошел все ожидания — область перегнала по количеству мяса на душу своего населения все развитые страны мира и далеко превзошла Америку, которая такого количества мяса просто была бы не в состоянии съесть. В 1959 году автор областного проекта, позволившего за год перегнать Америку по мясу, был удостоен звания Героя Социалистического труда, а еще через год, когда полное отсутствие коров в области стало как-то уж очень заметным, его лишили почетного звания и посоветовали застрелиться, что он и сделал. Однако неудачный эпизод с мясом отнюдь не охладил всенародный порыв «догнать и перегнать», и он продолжался до середины 60-х годов, пока Хрущева не задвинули в пенсионеры. Новый вождь народа Леонид Брежнев справедливо смекнул, что лично у него, Леонида Ильича, равно как и у всего вверенного ему партийного начальства, есть все, чего душа пожелает, да еще в количестве, намного превышающем то, что есть в этой хваленой Америке на душу всего ихнего населения. К тому же, вследствие грандиозных успехов Советского Союза в космосе еще неизвестно, кто кого должен догонять. Поэтому партийный лозунг «Догнать и перегнать Америку» был без лишнего шума снят и заменен более понятным и актуальным «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Тем не менее, в душе целого поколения советских людей осталось горькое чувство недостигнутого, и это чувство подчас прорывалось конвульсивными попытками «догнать и перегнать» хоть в чем-нибудь. Даже сейчас, через полвека, когда я слышу неумные антиамериканские сентенции современных российских обывателей, мне видятся в них отголоски той старой и бездарной попытки «догнать и перегнать», в них явно звучит обида неудачника, у которого не осталось никаких шансов даже «догнать».
Столь длинная преамбула понадобилась для того, чтобы представить ту атмосферу, в которой наша Лаборатории Передачи дискретной информации (ЛПДИ) в 60-е годы действительно перегнала Америку. Конечно, мы не были такими дураками, чтобы поверить в реальность партийных лозунгов, и наше достижение, пожалуй, явилось результатом случая, помноженного, однако, на энтузиазм молодости и здоровую творческую обстановку на кафедре. Как говорил А.М. Заездный, мы сделали систему радиосвязи лучше, чем американцы, потому что не знали, что так делать нельзя. Впрочем, если говорить серьезно, то в те годы Советский Союз отнюдь не уступал Соединенным Штатам в области общей теории связи. Американцы, безусловно, лидировали в теории кодирования, но русские — позвольте для краткости именно так называть всех с советской стороны баррикад — были впереди в теории оптимального приема сигналов. Этот расклад был отражением результатов двух основателей общей теории связи — Клода Шеннона и Владимира Котельникова, результатов, полученных почти одновременно во второй половине 40-х годов.
А история случилась вот какая — постараюсь изложить ее с минимальным количеством технических деталей, чтобы всем было интересно, но предупреждаю, что совсем без деталей не получится.
В 1958 году американские ученые и инженеры разработали систему Кинеплекс (Kineplex) для передачи закодированной речи по коротковолновым (КВ) радиоканалам. Это был грандиозный прорыв в технике цифровой связи. Во-первых, американцы одномоментно в десять раз увеличили скорость передачи данных по КВ радиоканалам, что и позволило впервые передать речь в цифровой закодированной форме на расстояния в тысячи километров без промежуточных ретрансляторов. Во-вторых, система Кинеплекс стала прообразом и предтечей большинства современных мобильных систем радиосвязи. В технической литературе технология Кинеплекса обозначается в наше время всем хорошо знакомой аббревиатурой OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing, что на русский язык переводится примерно так — частотное уплотнение ортогональными сигналами. Любопытно, что современные американские инженеры, работающие с технологией OFDM, как правило, не знают о ее прямом родстве с Кинеплексом. На одной из конференций по мобильной радиосвязи докладчик из исследовательской лаборатории AT&T не без гордости объяснял слушателям, что OFDM была изобретена в AT&T в начале 80-х годов. В перерыве я рассказал ему о Кинеплексе и добавил, что в начале 60-х мы в Советском Союзе разработали и испытали систему на принципах OFDM. Молодой человек вежливо поблагодарил меня, но, видно было, не поверил.
Так получилось, что мы на кафедре Теоретической радиотехники узнали о Кинеплексе только в 1960 году. Идея — построить высокоскоростную систему цифровой радиосвязи — была захватывающей, и мы с благословения Александра Михайловича Заездного приняли вызов. Несколько лет потребовалось для разработки и реализации системы МС-5, которая в полтора раза превосходила по скорости американский Кинеплекс. Однако главное было не в этом. Главное было в том, что, благодаря изобретению аспиранта кафедры Левы Раховича, нам удалось сделать принципиально новый шаг на пути от «древнего» Кинеп- лекса к современным системам мобильной радиосвязи. Чтобы не быть голословным, я вынужден привести здесь некоторые технические подробности, поэтому следующий абзац следует читать только тем, кому эти подробности интересны.
Разделение ортогональных составляющих многочастотного сигнала, а это — основная операция в технологии OFDM, было реализовано в Кинеплексе с помощью узкополосных (высокодобротных) электромеханических фильтров, которые назывались кинематическими — отсюда название американской системы. В системе МС-5 эта же операция была реализована с помощью прямого вычисления коэффициентов Фурье принятого сигнала. В наши дни такой подход кажется очевидным, но в те далекие годы простая мысль о том, что радиоприемник может что-либо вычислять, равно как и простое словосочетание «алгоритм обработки радиосигналов», не всегда, прямо скажем, вызывали понимание. Нам пришлось конкурировать с мощными радиотехническими предприятиями, которые шли по пути копирования Кинеплекса (одним из них, между прочим, был огромный секретный институт в Москве — бывшая «шарашка», описанная Солже- нициным «В круге первом»). Кроме того, нам пришлось соперничать с коллегами из других вузов. Главным нашим научным оппонентом был мой хороший друг профессор Даниил Давыдович Кловский, который настойчиво и весьма квалифицированно доказывал, что одночастотные системы лучше многочастотных.
Сколько раз закрадывалось сомнение — может быть, мы действительно на ложном пути. История, однако, доказала нашу правоту — сейчас тот подход, который мы так упорно отстаивали в 60 — 70-е годы, победил в технике мобильных систем радиосвязи с такой мощью, что дух захватывает. Нам в те годы оставалось сделать только один шаг до систем OFDM будущего — заменить вычисление коэффициентов Фурье алгоритмом Быстрого Преобразования Фурье, тем бесподобным БПФ (FFT — Fast Fоurier Transform), который в наши дни позволил обрабатывать одновременно тысячи гармоник, тем изящным БПФ, который вложен в микропроцессор почти каждого мобильного интернетовского терминала. Мы не сделали этот шаг. Почему не сделали? На то были серьезные внешние причины: неразвитость микропроцессорной техники, общая деградация науки в СССР с начала 70-х годов, и много чего еще, о чем скажу позднее, но, в первую очередь, то вязкое дерьмо под названием «партийное руководство», в котором мы пробарахтались аж до середины 80-х...
Однако если быть совсем честным и не валить все на внешние обстоятельства, то придется признать — не догадались тогда использовать БПФ. Да — проглядели эту судьбоносную тропу, да — не посетило нас тогда озарение. А ведь были мы ближе всех к великому прорыву в технологии мобильной радиосвязи, были намного ближе, чем американцы, и по научным результатам и по алгоритмической нашей ментальности — лишь одной небольшой вспышки озарения не хватило!
И тем не менее, летом 1968 года ЛПДИ испытала опытный образец аппаратуры МС-5 на радиолинии Новосибирск — Куйбышев. Никто в мире не передавал тогда данные со скоростью 4800 бит в секунду по коротковолновым радиоканалам. Помню, как в один прекрасный вечер мы послали А.М. Заезд- ному из Куйбышева в Ленинград короткую телеграмму: «Есть 4800 в коротковолновом радиоканале». Он ответил пространной и восторженной телеграммой, в которой слова «выдающееся научно-техническое достижение» были самыми скромными.
Здесь нет возможности рассказать обо всех тех, кто разрабатывал и испытывал МС-5, с подробностями, которых они заслуживают. Назову лишь сохранившиеся в памяти имена: инженеры Лев Рахович, Виктор Гинзбург, Валентин Гиршов, Борис Каган, Олег Кустов, Николай Пуолакайнен, Георгий Смирнов, Борис Черне, Лев Яковлев, техники Алла Марковская, Юрий Ручкин, Валентина Степаненко, студенты Э. Вашкявичус, Р. Витен- берг, Е. Захаров, А. Коптяев, С. Ланнэ, С. Лутовинов, Р. Розман, В. Смирных, А. Тихонович, В. Щеглев. Многие из перечисленных сотрудников ЛПДИ раннего периода защитили впоследствии диссертации, стали выдающимися инженерами, научными работниками, доцентами и профессорами. Некоторых, к сожалению, уже нет в этом мире.
Поскольку американский Кинеплекс давал только 3000 бит в секунду, Ученый совет ЛЭИС представил коллектив разработчиков МС-5 на Государственную премию СССР. Профессора Заездного и меня вызвали в Москву к заместителю министра Связи СССР. Перед приемом у зам. министра мы зашли посоветоваться к важному чиновнику Технического управления министерства. Он сказал — только не говорите заму, что ваша аппаратура лучше американской. А если он спросит, есть ли такая аппаратура в США? — поинтересовались мы. Скажите, что в Америке такая аппаратура давно есть, тогда он поверит, что вы не врете — наставлял нас знающий человек. Нам не пришлось воспользоваться этим советом — зам. министра ничего не спросил про Америку, а мы, на всякий случай, ничего об Америке не сказали, понимали, что перегонять Америку стало немодным. Не знаю, на каком этапе и почему наше выдвижение на Госпремию было зарублено, поэтому спекулировать не буду, хотя и догадываюсь, как это все выглядело.
Тем не менее, развитие МС-5 продолжалось. Потом были испытания на линии Хабаровск — Куйбышев, на сверхдлинной трассе Владивосток—Севастополь, и, наконец, опытная эксплуатация разработанной совместно с НИИ Радио системы цифровой радиотелефонии на линии Москва — Петропавловск Камчатский. Все испытания проходили успешно, и в 70 — 80 годы на базе МС-5 советская промышленность освоила серийный выпуск высокоскоростных модемов. В моем архиве сохранились документы об использовании алгоритмов и технических решений системы МС в комплексе «Тантал» для передачи данных по цифровым сетям и в аппаратуре «Монолог-3» для передачи информации по КВ радиоканалам в цифровой форме. Отношения с промышленностью складывались успешно, однако к середине 70-х это направление работы ЛПДИ начало увядать. Коротковолновые радиоканалы все больше уходили в область специальных военных применений, а новые приложения идеи многочастотных сигналов к мобильной связи на сверхвысоких частотах были в то время за горизонтом нашего видения.
Чтобы получить то загоризонтное видение нужен был не только озаряющий интеллектуальный импульс, но и мощный организационный прорыв. Мы были близки и к тому, и к другому, но ни то, ни другое не состоялось.
Почему прорыв в будущее не получился
1972 год был сложным и для Лаборатории и для меня лично.
Первая волна еврейской эмиграции сопровождалась общим усилением государственного антисемитизма, который и без того подходил к погромной черте. ЛЭИСовских преподавателей, заподозренных в намерении уехать из страны, ссылали с понижением в должности в мою лабораторию. Первым «ссыльным» был доцент С.М. Флейшер, впоследствии профессор Технического университета в Новой Шотландии (Галифакс) в Канаде — он подал заявление на выезд в Израиль. Вторым «ссыльным» был зав. кафедрой, профессор А.М.Заездный, впоследствии профессор Университета Бен-Гуриона в Израиле — его дочь подала заявление на выезд в Израиль. Третьим «ссыльным» был профессор Л. М. Финк — его дочь уехала в США. Такое мощное пополнение укрепляло лабораторию в научном плане, но... Впрочем, это уже другая история.
В начале того года события развивались по нарастающей, и где-то на пике казалось, что все — и внешние обстоятельства, и внутренняя готовность — сложились в мощный вектор, который был так необходим для прорыва в будущее. А потом произошел обвал. Конечно, тогда все воспринималось не с такой остротой — жизнь продолжалась, что-то не получилось, но мы были молоды, и все еще было впереди, и не верилось, и не виделось, что это обвал и что это навсегда. Но потом, издалека стало видно, что это было началом конца, что наш большой научно-тех
нологический замах должен был постепенно и неизбежно сойти на нет, что он на самом деле был обречен. Ничем не оправданный оптимизм, иллюзорное представление о том, что худшее осталось позади, помешали увидеть это сразу, помешали мужественно принять тяжелый вызов судьбы, сменить курс, резко встать и уйти вместо того, чтобы потихоньку выкарабкиваться из грязи... Впрочем — все по порядку.
23 марта 1972 года на заседании Ученого совета ЛЭИС им. проф. М.А. Бонч-Бруевича я защитил докторскую диссертацию на тему «Методы проектирования систем связи». Голосовали: за — 18, против — 1. Среди запомнившегося навсегда — выступление патриарха советской радиотехники, доктора технических наук, профессора, генерал-майора войск связи Исая Герцевича Кляцкина. Аристократически сдержанный профессор Кляцкин был чрезвычайно скуп на похвалы и славился невероятной способностью находить скрытые недостатки в научных идеях и технических проектах. Рассказывали, что в предвоенные годы и во время войны ни одна радиостанция не принималась на вооружение Красной армии без его согласия — одобрение Кляцкина означало немедленный запуск в серийное производство и, как правило, Сталинскую премию разработчикам. То, что Исай Герцевич сказал о моей работе в тот день, я до сих пор воспринимаю, как одну из самых важных и почетных оценок, когда-либо мною полученных.
С моей докторской степенью многие определенно связывали расширение работ в области цифровой радиосвязи и в лаборатории, и в институте, и даже в стране. Мои коллеги и друзья ожидали больших, положительных перемен. Я тоже пребывал в идиотском состоянии эйфории — представить себе не мог, какую скрытую волну завистливого недоброжелательства вызвал мой успех, скольких «друзей» я потерял из-за этой защиты. Ну и уж, конечно, не мог представить, что в определенных столичных кругах уже сыгран сигнал к построению — «этого научного деятеля пора остановить».
Впрочем, поначалу события развивались вполне благоприятно, как бы подтверждая обоснованность эйфории. Летом 1972 появились слухи, что моя докторская степень уже утверждена ВАКом (Высшая Аттестационная Комиссия при Совмине СССР), а задержка с оформлением вызвана летними каникулами. Первым эту новость озвучил Юрий Николаевич Кокусев, сославшись на анонимного профессора из Академии связи.
Юра Кокусев — человек сложной и необыкновенной судьбы, в то время быстро возносился по партийной линии и вскоре был назначен начальником Ленинградского отделения НИИ Радио (ЛО НИИР). Перед вступлением в должность он пришел посоветоваться с А.М. Заездным. Александр Михайлович среди прочего дал ему две главные рекомендации: во-первых, никого не увольнять и, во-вторых, вникать в техническую суть разработок института. Юра впоследствии нарушил и то, и другое, и был смещен с должности, но поначалу он был полон благих намерений вывести институт на ведущие роли в отрасли. Размышляя о том, как это сделать, Юра вспомнил обо мне: молодой (его возраста) доктор наук, руководитель ведущей отраслевой лаборатории в области цифровой радиосвязи — это звучало привлекательно и обнадеживающе.
Вскоре Кокусев пригласил меня к себе в институт и сходу предложил должность своего заместителя по научной работе. Я не был готов к такому повороту и пытался отшутиться — мол, дескать, кто же позволит в наше время взять беспартийного еврея замом по науке такого крупного научно-исследовательского института. Юра ответил серьезно: «Это моя проблема, а твоя — вывести институт на ведущие позиции в радиостроении; только об этом ты и должен думать — ни о чем другом». Секретарша принесла коньяк, лимон, кофе, пирожные. Кокусев парировал все мои возражения и буквально обезоружил меня готовностью выполнить все требования. Я подавал убойный мяч — он мастерски отбивал его:
— Я не могу оставить лабораторию — Возьми лабораторию с собой.
— Но тогда лаборатория должна стать самостоятельным отделом института — Открываем новый отдел Цифровой радиосвязи на базе твоей лаборатории.
— Кто будет начальником отдела? — Это твоя забота.
— Я хотел бы видеть на этом месте Виктора Гинзбурга — Принято.
— Но он тоже... беспартийный — Не твоя забота.
— Мы не можем прекратить работы по МС-5 — Продолжай все, что сочтешь нужным.
Поздно вечером мы расстались — я взял тайм-аут для консультаций с руководством ЛЭИС, с профессорами А.М.Заездным и Л.М.Гольденбергом, с коллегами по лаборатории. В течение недели план создания в ЛОНИИРе нового отдела Цифровой ра
диосвязи в составе четырех лабораторий был детально проработан и всеми заинтересованными лицами принят. По плану мои ребята получали резкое повышение в должностях, да и зарплаты в промышленном институте были выше вузовских.
Я напряженно думал о том колоссальном вызове, который предъявляет мне руководство научной работой большого института. В непроницаемом тумане будущего мне виделись контуры совершенно новых систем радиосвязи — какая-то не вполне ясная комбинация многочастотного сигнала на базе преобразования Фурье и широкополосных сигнально-кодовых конструкций. Как будто Провидение подсказывало мне будущий облик цифровых систем мобильной радиосвязи. В этих двух направлениях мы идем впереди, размышлял я, их объединение — наш конек, в промышленном институте будут блестящие возможности оседлать его...
С Юрием Николаевичем Кокусевым я больше никогда в жизни не встречался. Он с нетерпением ждал моей докторской степени, ибо без нее не мог утвердить мою кандидатуру в Ленинградском горкоме партии, но... не дождался. Мне потом рассказывали, что, когда Юру сняли с должности начальника института и задвинули куда-то в провинцию, он все сетовал, что это случилось из-за Окунева, — мол, если бы мы с ним вместе работали, то все повернулось бы иначе... Может быть!
Мое дело в ВАКе тянулось два с половиной года!
Как потом выяснилось, задержка с неутверждением была вызвана тем, что не все, назначенные писать отрицательные отзывы, согласились делать это. У председателя экспертной комиссии ВАКа профессора В.И. Тихонова возникла проблема с отрицательной оценкой практического значения моих результатов, ибо их фактическое использование сильно превышало средний уровень внедрения результатов докторских диссертаций. Достаточно сказать, что в то время на базе моей фазо-разностной модуляции второго порядка в Горьковском НИИ Радиосвязи была закончена разработка новой радиостанции для цифровой связи со сверхзвуковыми истребителями и с советским аналогом американского AWAKS — летающего командного центра управления. Здесь нужна была тяжелая артиллерия, поэтому отрицательный отзыв было поручено писать головному научно-производственному объединению Советского Союза — Московскому НИИ радиосвязи. К сожалению для ВАКа, директор этого института не справился с заданием родной партии. Прочитав мою диссертацию, доктор наук М.С. Немировский, которому было поручено техническое выполнение задания, прямо заявил, что имеет положительное мнение о моей работе, и отказался писать отрицательный отзыв. Директор МНИИРС вынужден был извиняться лично перед товарищем Тихоновым за то, что не может выполнить данное партийное поручение.
В это время на имя председателя ВАК В.П. Елютина поступили дополнительные материалы о внедрении результатов диссертации от зам. министра Радиопромышленности СССР тов. Панкратова и от зам. начальника НИИ Радио тов. Шамшина (будущий министр Связи СССР). Вся тщательно подготовленная операция разваливалась, и тогда к ее выполнению были подключены настоящие мастера своего дела — профессора М. М. Тепляков и Ю.Н. Бакаев. Не найдя в диссертации ни одного не только нового, но даже интересного старого результата, профессора дали разгромные отзывы.
Передо мной чудом сохранившийся секретный отчет ВАКа о моем деле — пространный и бестолковый канцелярский документ на 9 страницах, составленный старшим инспектором ВАК А. Емельяновой. Из него я в свое время узнал и подлинные имена «черных оппонентов», и многие другие детали ВАКовской кухни. Кто-то из моих доброжелателей — не помню кто, но спасибо ему, — выкрал для меня один экземпляр из дела. На титульном листе документа, в правом верхнем углу, напечатано то, что, по мнению инспектора ВАК, следовало в первую очередь знать о соискателе ученой степени доктора технических наук:
Экз.2
№ 219706
Окунев Юрий Бенцианович 1937 г. рождения, еврей, б/п.
Не могу себе простить, что добровольно принял участие в этом нечистом спектакле. Все убеждали меня — ты должен дать исчерпывающий научный ответ, иначе они скажут, что ты согласен с их выводом. Я поддался уговорам, но это был ложный шаг и даже, пожалуй, роковая ошибка. Профессора Тепляков и Бакаев трусливо полаяли из подворотни и смылись. Мне бы — отказаться участвовать в нечестной дискуссии с отсутствующими оппонентами, а я начал им серьезно отвечать. Годы, лучшие годы моей жизни, потратил я на бессмысленную борьбу с гигантским аппаратом тоталитарного монстра, принявшего антисемитизм в качестве своей основной идеологической доктрины.
Где-то в 1973 я поехал к своему хорошему приятелю — доктору наук и члену ВАКа — в подмосковный город Мытищи, где он работал в военном исследовательском центре. В свое время я сильно помог ему с защитой докторской диссертации в ЛЭИС. Рассказал моему приятелю о своих перипетиях с ВАКом и спросил: «Коля, что происходит?» Он объяснил мне прямо: «Юра, ты должен понять, что сейчас очень напряженно с еврейским вопросом».
Казалось бы — тебе ясно объяснили, что к чему, но я отказывался это понимать, я упорствовал в своем стремлении восстановить справедливость.
В 1981 году я защитил на Ученом совете ЛЭИС вторую докторскую диссертацию. Это была новая работа с новыми результатами по теории цифровой связи фазомодулированными сигналами и с новым значительным багажом их практического использования в радиопромышленности. К тому времени мой метод передачи информации ФРМ-2 не только уже работал в новой авиационной аппаратуре — радиостанции «Позитрон» и радиоприемнике «Метеорит», но и был введен в Государственный Стандарт (ГОСТ), то есть стал обязательным для авиационной военной техники. И тем не менее, диссертация была отклонена практически без серьезного рассмотрения, ибо бессменная тихоновская команда по-прежнему заправляла в ВАКе. В отзыве черного оппонента было сказано, что мой научный руководитель проф. А.М. Заездный уже уехал в Израиль и что не имеет никакого смысла присуждать ученую степень доктора наук его последователю (ВАКовские секретарши пытались замазать этот пассаж в копии отзыва, но не сумели сделать это добросовестно, а, может быть, и не очень то старались). Я обратился к вице-президенту АН СССР академику В.А. Котельникову с просьбой защитить меня от ВАКовского произвола, но он не захотел вникать в суть дела и ответил мне формальной отпиской.
Я осознал тогда, что этот режим и эту ВАКовскую команду мне не пережить.
Запомнилась такая сцена. Я нервно курю в предбаннике ВАКа, ожидая начала заседания по моей новой диссертации. Чуть в стороне курят два члена комиссии, перед которой мне предстоит выступать, — оба меня в лицо не знают. Один из них тихо инструктирует другого: «Нужно заткнуть ему рот. Если он начнет отвечать по делу, прерывай его и задавай следующий вопрос — нельзя дать ему возможность показать себя». Я бросаю сигарету, поднимаюсь на этаж выше, в приемную зам. председателя ВАКа и требую немедленно принять меня. На удивление, он тотчас принимает меня — вальяжный чиновник, доктор наук, профессор. Я пересказываю профессору только что услышанное и заявляю, что отказываюсь участвовать в этом спектакле. Профессор отвечает, что частные разговоры не могут служить основанием подозревать уважаемую комиссию в необъективности, но, тем не менее, своей властью переносит заседание на месяц на том, якобы, основании, что не все документы о внедрении поступили в комиссию.
Дело дошло, в конце концов, до того, что ректор ЛЭИС проф. Куликовский был вызван в ВАК по поводу моих бесконечных диссертационных претензий, которые вызывали все большее раздражение в московских научно-партийных кругах. Конфликт между Ученым советом ЛЭИС и ВАКом усугублялся еще и тем, что мой коллега по ЛПДИ Иосиф Гуревич защитил одновременно со мной очень сильную докторскую диссертацию по теории синтеза параметрических цепей, которую та же комиссия ВАКа, естественно, мгновенно зарубила. Однако этот еврейский докторский дуплет вызвал в ВАКе настоящий припадок злобы, которая и излилась на нашего несчастного ректора-недотепу. По рассказам очевидцев он вяло оправдывался — мол, дескать, у него в Совете такие известные ученые, как профессора Белецкий, Финк, Шмаков, Буга, Корнилов, Коржик и т.д., но получил резкий разнос за недостаточную бдительность. Меня вместе с ректором в ВАК не пригласили — видимо, разговор был весьма конфиденциальный и абсолютно не научный, но мне удалось получить аудиенцию аж в самом ЦК КПСС. Принявший меня в здании ЦК КПСС на Старой площади деятель был чрезвычайно любезен и доброжелателен. Он деликатнейшим образом отказался вмешиваться в «сугубо научную дискуссию» о присуждении мне докторской степени, но в светской беседе, как бы между делом, разъяснил мне, дураку, ситуацию — он то, мол, лично против крайностей в еврейском вопросе, но если бы евреи знали, что о них говорят на Политбюро, они бы не уезжали, а убегали.
Сколько энергии, сколько невосстановимых нервных клеток было потрачено на ту бессмысленную борьбу. Презираю себя за участие в ней, но это уже из разряда остроумия на лестнице.
Вспоминая те тяжелые для меня годы, не могу не сказать о тех ученых, которые морально поддержали меня тогда и не отреклись от этой поддержки, несмотря на силовое давление определенных кругов и органов. В моем родном Ленинграде это были известные ученые, доктора наук, профессора Исай Герцевич Кляцкин, Лев Матвеевич Финк, Валерий Иванович Коржик, Николай Никитич Буга, Федор Матвеевич Килин, Артур Абрамович Ланнэ, Игорь Анатольевич Цикин, Игорь Сергеевич Андронов, Кирилл Николаевич Щелкунов, Израиль Григорьевич Ханович, Всеволод Филиппович Нестерук, Николай Степанович Бесчастнов — да простит меня Господь, если забыл кого-нибудь. Из тех, кто поддерживал мою диссертацию в Москве и других городах, хотелось бы назвать вице-президента АН СССР, академика Бориса Николаевича Петрова, член-корреспондента АН СССР Якова Залмановича Цыпкина, докторов наук, профессоров Николая Иосафовича Чистякова, Бориса Рувимовича Левина, Юрия Николаевича Мельникова, Евгения Федоровича Камнева, Николая Петровича Хворостенко, Михаила Семеновича Немировского, Андрея Глебовича Зюко, Юрия Сергеевича Лезина, Даниила Давыдовича Кловского, Леонида Яковлевича Липкина, Бориса Семеновича Флейшмана.
Но с особой признательностью и трепетным волнением произношу я имена выдающихся ученых, докторов технических наук, профессоров Николая Тимофеевича Петровича и Андрея Андреевича Пирогова — русских интеллигентов высочайшей пробы, с которыми я имел счастье работать и чьей дружбы я был удостоен. Их открытое противостояние советскому государственному антисемитизму в науке принадлежит к деяниям тех святых русских людей, которые, подобно Льву Толстому и Владимиру Соловьеву, спасали достоинство нации в самые мракобесные периоды ее истории.
В своей книге «Толковый словарик диссертанта и оппонента» профессор Петрович писал:
«Этот зловещий пятый пункт анкеты для многих преградил пути в нашу науку. Вспоминаю, как терзали меня в Отделе кадров, когда, по их раскопкам, аспирант оказался отнюдь не Ефим Ефимович, а Хаим Хаимович... С трудом удалось нескольких, с ответом ДА на этот пункт, все же довести до защиты. Но впереди был грозный ВАК! Помнится, как профессор Андрей Андреевич Пирогов и я отстаивали там диссертацию о кодировании с помощью шума... Отстоять нам ее не удалось.
Несмотря на освобождение нашими войсками Освенцима, Бухенвальда..., государственный антисемитизм продолжался и после окончания войны. Сталин и его окружение вдохновляли и поддерживали его. Только падение коммунистического режима остановило это.
Талантливый ученый Юрий Окунев дважды очень успешно защитил докторские диссертации на разные темы, оба раза я был оппонентом. Но ВАК, поклоняясь идолу №5, извиваясь ужом, отклонял их. Кстати, Ю. Окунев сейчас очень успешно развивает науку США.»
Вероятно, в те тяжелые годы я не сумел бы сохранить психическое равновесие не будь в мире людей подобных Н. Т. Петровичу и А. А. Пирогову.
В 1989 году я впервые приехал в США и при содействии моего друга Жени Финкельштейна встретился в Кембридже в знаменитом Массачусетском Технологическом Институте (МIТ) с одним из великих ученых нашего времени, профессором Робертом Галлагером. Он был знаком в общих чертах с моими работами в области фазо-разностной модуляции, и после нашей беседы предложил мне приехать в М1Т на достаточно длительный срок и поработать в его исследовательской лаборатории Информационных систем. Окрыленный предложением Галлагера, я глуповато выпалил: «Скажите, пожалуйста, не могу ли я защитить докторскую диссертацию у вас в МIТ?». Профессор посмотрел на меня с удивлением и спокойно ответил: «Конечно, можете, но зачем вам это? Вы создали свою научную школу, вы написали несколько оригинальных книг — пусть ваши аспиранты защищают диссертации».
Кажется, только после этого совета Галлагера нравственная травма слегка зарубцевалась, и я, наконец, успокоился.
Oт Дела Соколова до Дела Шестнадцати
с промежуточным кругосветным непутешествием
Десятилетие 1974—1984 было самым мрачным в послесталин- ской истории Советского Союза. Дряхлеющий тоталитарный режим впадал в полный маразм и мракобесие, и это, конечно же, находило адекватное отражение в стенах ЛЭИС им. Бонч-Бруевича.
ЛЭИС был на особом контроле у партийных органов, потому что со времен ректора Константина Хрисанфовича Муравьева
считался вузом с сильным «еврейским влиянием» и даже «рассадником сионизма», что, безусловно, было партийным бредом. Пришедшие на смену генералу Муравьеву ничтожные руководители, стараясь выслужиться перед партийным начальством, ничуть не скрывали, а напротив, выпячивали свой антисемитизм под вялым фиговым листком антисионизма. В технической библиотеке ЛЭИС в те годы уничтожали учебники еврейских авторов. Подобные акции сходили руководству с рук, но иногда и они перебарщивали в своем антисионистском рвении и получали по рукам. Одной из таких сорвавшихся акций было знаменитое Дело Соколова, в котором я принимал непосредственное участие. Вот кратко суть этого дела.
В 1975 году мой аспирант из ЦНИИ Морского флота Борис Павлович Соколов представил для защиты на Ученом совете ЛЭИС кандидатскую диссертацию. Для полной ясности картины скажу, что, во-первых, диссертация была вполне добротная, и, во-вторых, Боря не имел к еврейству никакого отношения за исключением того прискорбного факта, что его научный руководитель был евреем. Пост председателя Ученого совета занимал в то время товарищ Ощепков, временно заменивший предыдущего ректора — товарища Миронова, срочно сосланного в провинцию за серию уголовных воровских деяний. Товарищ Ощепков страдал комплексом неполноценности, недолюбливал евреев и особенно не переносил меня. Он решил завалить диссертацию Соколова, чтобы впредь неповадно было писать диссертации под еврейским руководством, и с этой вполне партийной целью подговорил одного маститого профессора выступить против. Задумано — сделано, и после отрицательного выступления профессора (не хочу называть имя этого уважаемого мною человека — верю, что он не понимал отведенной ему роли в этом грязном деле) Ученый совет большинством голосов отклонил диссертацию Соколова. Боря жутко переживал, а потом, посоветовавшись со мной и используя свои связи в партийных кругах, пожаловался в горком партии. В результате, через несколько дней после защиты я был вызван к зав. отделом науки Ленинградского горкома КПСС в Смольный, где незабвенный Владимир Ильич Ленин когда-то заварил всю эту кашу. Зав. отделом — интеллигентного вида дама — спросила, что же на самом деле случилось на заседании Совета. Поскольку дело касалось не меня лично, я бил прямой наводкой. Первое — нынешний ректор института не переносит меня, потому что я еврей; второе — именно поэтому ректор собственноручно организовал отрицательное голосование по диссертации моего аспиранта; третье — я согласен терпеть антисемитские выходки ректора в отношении себя, но не позволю распространять их на моих сотрудников и аспирантов. Почему — дерзил я — талантливый русский парень Боря Соколов должен страдать из-за того, что некто не любит евреев? Потом мы довольно долго говорили о составе нашего Ученого совета, о научном уровне разработок института и тому подобное. Но вот что любопытно — сановная дама ни разу не попыталась возразить на мои прямые обвинения руководства ЛЭИС в антисемитизме. Наступили времена, когда умный человек полагал нелепостью скрывать это. После моего визита в Смольный события развивались стремительно и неординарно. Ровно через неделю ректор, получивший, по-видимому, мощный разнос от партийного начальства, в нарушение всех писаных инструкций ВАКа, собрал новое заседание Совета. Поджав хвост, он в угодливо-печальных интонациях пояснил, что на предыдущем заседании были допущены определенные процедурные нарушения, поэтому есть необходимость продолжить обсуждение диссертации товарища Соколова. Затем Боря снова развешивал плакаты, я повторял свою речь и т.д. и т.п. И тот же совет, который неделю назад проголосовал против, ныне проголосовал единогласно за — вот что значит «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!». А мы с Борей тогда крепко выпили.
Жизнь, однако, продолжалась, и в истории ЛПДИ наметился даже некоторый ренессанс. К работам лаборатории подключились доктора наук Л.М.Финк и В.И.Коржик. Со своими идеями и опытом в нее пришли Владимир Перьков, Михаил Лесман, Иосиф Гуревич, Геннадий Антонов, Юрий Арзуманян, Анатолий Наумов, Владимир Ляндрес, Юрий Черкасский, Владимир Лундин, Юрий Фомин, Сергей Лутовинов, Ариан Захаров, Александр Бердников, Александр Мессель, Игорь Зельвенский, Иосиф Кисляков. В лаборатории успешно работали Владимир Селянинов, Эдуард Бесперстов, Леопольд Друян, Татьяна Даниель-Бек, Иван Григорьев, Владимир Косминский, Александр Райхлин, Евгений Югай, Сергей Козлов, Виктор Шимко, Дмитрий Орлов. К концу 80-х коллектив ЛПДИ включал более 50 ученых, инженеров и техников, а научная школа лаборатории — более 60 кандидатов технических наук. Лаборатория переехала в более просторное помещение на последнем этаже старинного здания на Английском проспекте — с балкона моего кабинета теперь открывался уникальный вид на петербургские шпили и купола.
В послеМСовскую эпоху — так я называю период истории ЛПДИ после постепенного затухания работ по системе МС-5, в конце 70-х и в 80-е годы в лаборатории проводились интересные исследования и разрабатывались новые, а подчас и уникальные системы цифровой связи. Пожалуй, творческого взлета уровня 60-х не было, но престиж лаборатории в те годы был очень высоким. Фактически заказчики из промышленных предприятий и исследовательских институтов боролись за право заказать работу нашей Лаборатории. Мы были ограничены жесткими финансовыми рамками советской системы и часто вынуждены были отказывать заказчикам или ставить их на очередь. В те годы, будучи и начальником лаборатории, и научным руководителем нескольких научно-исследовательских работ, я принимал решения по планам работ практически единолично, сообразуясь только с интересами коллектива, без какого-либо вмешательства со стороны кафедры или ректората, — в этом смысле ЛПДИ тех лет была удивительным островком свободы среди грубой партийной диктатуры. Редкие попытки ректората навязать мне свои решения не имели успеха и, как правило, не возобновлялись.
Однажды новый проректор по научной работе, присланный по партийной разнарядке, решил расширить свою лабораторию, а для этого ему нужно было сократить финансирование других лабораторий. Считая меня, по понятным причинам, достаточно зависимым и уязвимым, он через своих подручных велел мне составить урезанный план работ на следующий год. Я подручным отказал, и тогда раздался грозный звонок с таким примерно текстом: «Вы, Юрий Борисович, обязаны выполнять распоряжения руководства, а не будете выполнять — закроем лабораторию». Я рассвирепел: «Руки коротки, не вы открывали лабораторию, не вам ее закрывать. А голос можете повышать на своих секретарш, со мной этот номер не проходит». Интересно — отстал от меня с урезанием планов. Но зато потом отыгрался на моей докторской диссертации — уговорил профессоров Академии связи не писать письмо в мою поддержку.
Среди наиболее интересных НИР тех лет вспоминаются в первую очередь спутниковая система передачи радиоастрономи ческих данных, разработанная совместно с институтом Прикладной астрономии АН СССР и НИИ Радио, система цифрового радиовещания по заказу Всесоюзного НИИ радиовещательного приема и акустики, и цикл работ по системам морской радиосвязи для Центрального НИИ морского флота СССР.
О каждой из этих работ можно написать захватывающий рассказ. Например, об удивительных опытах в центре спутниковой связи в городе Дубна под Москвой, о гигантском радиотелескопе в станице Зеленчукская в горах Кавказа, о не менее впечатляющем 60-метровом зеркале радиотелескопа на Карельском перешейке под Ленинградом, о жесткой борьбе за концепцию европейского цифрового радиовещания, о насыщенных приключениями поездках с аппаратурой морской связи по Черному морю, о поисках наилучшего решения для аварийного радиобуя, передающего сигналы бедствия с поверхности моря через спутник в наземный центр спасения терпящих кораблекрушение.
Впрочем — все это вряд ли уместно в этом кратком отчете. Просто хочется хотя бы произнести имена тех замечательных людей, с которыми нам посчастливилось работать в то время: директор института Прикладной астрономии АН СССР Андрей Михайлович Финкельштейн, начальник лаборатории этого института Михаил Наумович Кайдановский, начальник Центра спутниковой связи Виктор Александрович Быков, начальник лаборатории ВНИИРПА Михаил Урович Банк, начальник отдела ЦНИИМФ Анатолий Иванович Балашов, зав. кафедрой акустики МЭИС Максим Владимирович Гитлиц. Жизнь разбросала всех по свету: Андрей Финкельштейн и Миша Кайдановский в Санкт-Петербурге, Миша Банк в Израиле, Максим Гитлиц в Австралии. С ними я до сих пор поддерживаю дружеские отношения через один или два океана. С Витей Быковым мы когда-то ездили вместе в командировку в Румынию по приглашению Румынской Академии наук. Витя отыскал там могилу своего отца, погибшего при освобождении Румынии от фашистов. А потом на роскошной академической даче в горах под Бухарестом выпили мы с ним невообразимое количество халявного коньяка, и, конечно, подружились — какой это был незаурядный, яркий человечище.
В те годы очень много времени уходило на непроизводительное преодоление партийных заданий, указаний и препятствий. Миллионы людей действительно много работали, скрупулезно, а подчас и суетливо выполняли распоряжения вышестоящего начальства, а товаров, продуктов, доступных услуг становилось все меньше. Дефицит продуктов становился просто удушающим — энергия огромной страны уходила на трение, на трение частей гигантского насквозь коррумпированного механизма так называемого партийного руководства.
Однажды министерство Морского флота задумало испытать наши разработки не во внутренних водах, а на просторах мирового океана. Было решено разместить аппаратуру на большом морском сухогрузе, отправлявшемся в кругосветное плавание. Для испытаний аппаратуры на сухогрузе было выделено два места — одно для сотрудника ЦНИИ Морского флота и одно для нашей лаборатории. Я был тогда научным руководителем этой разработки, и все признали, что лучше меня никто не проведет эти испытания. Началась длительная и особо тщательная процедура оформления документов на зарубежную поездку: ведь сухогруз будет заходить — о, ужас — в порты капиталистических стран. Для тех, кто испытывает ностальгию по «великой» советской державе, хочу напомнить, что пожелавшим съездить за границу надлежало пройти три ступени проверки: идеологическую комиссию парткома по месту работы (для пенсионеров — по месту проживания), выездную комиссию при местном райкоме партии, и специальную комиссию горкома или ЦК КПСС в зависимости от ранга отъезжающего и цели поездки. Последняя комиссия, которая была, на самом деле, подразделением КГБ, все и решала, а первые две служили для предварительного отсеивания явно неблагонадежных кандидатов. Я как-то поразительно легко прошел идеологическую комиссию при парткоме ЛЭИС — все признали, что поездка нужная и кандидат подходящий. Зная меня много лет, члены комиссии расслабились и не проявили большевистской бдительности. В Куйбышевском райкоме партии, который тогда скромно размещался в бывшем дворце князей Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, поначалу все шло хорошо — меня попросили посидеть и подождать в приемной зала заседаний комиссии. Я сидел полчаса, потом еще час, вокруг сновали люди, входили в зал и выходили из него, а меня все не вызывали. Наконец вышел какой-то человек и сказал, что мои документы оформлены в институте неправильно и отправлены назад для дооформления. Едва я явился в институт, как меня вызвал ректор Ю.П. Куликовский. На нем лица не было — видимо, он получил настоящий разнос из райкома за попытку свалить грязную работу на чистых райкомовских работников. Куликовский орал не своим, истошным голосом, орал несвязную белиберду — мол, почему вы саботируете важное правительственное задание, да еще хотите бросить лабораторию чуть ли не на полгода... Я молчал. Накричавшись, он тоже замолчал. «Юрий Петрович, — вступил в разговор я — если вы хотите сказать, что райком отклонил мою кандидатуру, так и скажите — я не упаду в обморок». Ректор посмотрел на меня и ответил уже вполне спокойно: «Именно это я, кажется, и объяснял вам. Что будем делать?» У меня давно был готов ответ: «Очень просто — пошлем в командировку другого сотрудника лаборатории, русского по паспорту. Я рекомендую Юру Фомина — он участвовал в разработке аппаратуры». Юрий Петрович обмяк и уже совсем без эмоций сказал: «Хорошо, скажите Фомину, пусть оформляет документы, проведем его быстро — и после паузы добавил — Спасибо вам... за понимание».
Юра Фомин потом много рассказывал мне о свой замечательной поездке вокруг света — она, кажется, была самым значительным событием в его не очень яркой жизни. Хорошо, что советская власть не пустила меня в то кругосветное плавание — я ведь подвержен морской болезни.
А с профессором Куликовским мне еще пришлось нахлебаться настоящего дерьма, ибо в конце 1981 года он из трусости инспирировал знаменитое Дело Шестнадцати, по которому проходил и я, только что защитивший вторую докторскую диссертацию, и мои друзья-шабашники. Тогда Куликовский едва не упек нас в тюрьму, что на самом деле было бы вполне логичным финалом моего морального противостояния мракобесному режиму.
Но о Деле Шестнадцати я ни слова больше не скажу. Во-первых, это уже не производственное, а сугубо личное дело, а, во-вторых, есть книжка «Дело Шестнадцати», в которой все описано с мельчайшими подробностями, да еще и с песнями моего друга и замечательного поэта Володи Селянинова.
На переломе
Последние годы моего начальствования в ЛПДИ пришлись на время горбачевской перестройки. Первые шаги к рыночным отношениям в экономике и ослабление государственного контроля над зарплатой привели к тому, что мы впервые в жизни начали зарабатывать приличные деньги — не выделенную государством нищенскую зарплату, а столько, сколько реально могли заработать. Постепенно, однако, заказы от госпредприятий стали иссякать — им тоже не хотелось отдавать свое на сторону. Мы поняли, что пора — чем скорее, тем лучше — открывать частнокапиталистическое предприятие на базе ЛПДИ. Поначалу по предложению Юры Арзуманяна мы открыли небольшую фирму по производству устройств автомобильной охранной сигнализации. Выделили из средств ЛПДИ деньги на ее раскручивание, сняли помещение, наняли опытного зав. производством — нашего хорошего приятеля с выразительным именем Гирей Исламович Дагиров. Прошел примерно год, но фирма дохода не приносила — короче говоря, первый капиталистический блин получился комом. Тогда возникла идея создания на базе двух лабораторий, ЛПДИ и Лаборатории Оптико-волоконной связи, частной фирмы «Радиотелеком» с приоритетным направлением — разработка и производство радиотелеметрических систем для различных энергетических сетей. Эта идея оказалась плодотворной, и «Радиотелеком» стал одним из первых успешных частных предприятий радиотехнической направленности в новой России.
После 1993 года, ведомый опытным триумвиратом — Миша Лесман, Женя Барбанель и Иосиф Гуревич, «Радиотелеком» успешно обошел рифы капиталистической ломки, обеспечил сотрудникам пристойный уровень доходов и позволил сохранить коллектив ЛПДИ, за что я моим коллегам и друзьям искренне благодарен.
Жизнь моего друга Миши Лесмана вот уже на протяжении более 40 лет связана с ЛПДИ. Он пришел в лабораторию еще студентом, потом, после службы в армии, вернулся в нее инженером, в конце 70-х защитил кандидатскую диссертацию (тоже не без ВАКовских приключений), в конце 80-х стал моим заместителем по ЛПДИ и «Радиотелекому», а после моего отъезда возглавил и лабораторию, и предприятие.
19 августа 1991 года мы с Мишей Лесманом уезжали поездом из Кисловодска в Ленинград. Рано утром перед отъездом один кисловодский приятель сообщил нам, что Горбачев снят, и власть в Москве захватила группировка во главе с вице-президентом Янаевым. В созданный Янаевым Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) вошли председатель Совета министров СССР, председатель КГБ, министр обороны и министр внутренних дел, а в Москву, Ленинград и другие крупные города страны вводятся войска. Больше никаких подробностей наш приятель не знал и посоветовал включить телевизор. По телевизору передавали заявление ГКЧП о введении в стране чрезвычайного положения. Янаев с трясущимися руками сетовал на то, что, мол, некоторые выезжающие за границу советские люди, дорвавшись до заграничных тряпок, позорят советский общественный строй. А потом по всем каналам стали передавать балет Чайковского «Лебединое озеро», но и без балета была ясна общая направленность путча.
В поезде на протяжении двух суток мы не имели никакой информации о событиях в Москве и Ленинграде. Тем не менее, было очевидно, что этот путч не может быть неуспешным, ибо нет в стране таких сил, которые могли бы противостоять совместным действиям армии, КГБ и милиции. А если это так, — рассуждали мы — то страна возвращается к коммунистической диктатуре, железный занавес снова опускается, чтобы возродить и оградить от остального мира гигантский советский концлагерь. Нам представлялось, что Борис Ельцин в Москве и Анатолий Собчак в Ленинграде уже арестованы, а, может быть, и расстреляны. На каждой станции мы приставали к первым попавшимся прохожим с одним единственным вопросом: «Что в Москве?» Нас потрясла индифферентность народа к происходящему — большинство вообще не знало, что в Москве что-либо происходит, а те немногие, кто знал, отвечали невнятно и незаинтересованно. Народ, превращенный десятилетиями тоталитарного режима в стадо баранов, абсолютно не интересовался своим будущим — это убеждало нас в правильности наших горьких предчувствий.
Какое счастье, что мы ошиблись!
Мы приехали в Ленинград в мрачном настроении, в ожидании самого худшего. На перроне вокзала оказался человек с раскрытой газетой «Вечерний Ленинград» в руках. Подскочив к нему и заглянув бестактно через его плечо, мы увидели на первой полосе огромный заголовок «Янаева — к суду!».
У меня перехватило дыхание — советский коммунистический режим рухнул окончательно и бесповоротно. Как жаль, что я прожил большую и лучшую часть моей жизни в нем — одном из самых мракобесных режимов в истории человечества.
И, наконец, о звездных часах
В этом 2007 году международный Институт инженеров в области электротехники и электроники (IEEE) присудил мне награду имени Чарльза Гирша (IEEE Charles Hirsch Award) за, как говорилось в уведомлении, «выдающийся вклад в теорию фазовой модуляции и разработку современных систем мобильной радиосвязи».
Я понятия не имел, кто такой Чарльз Гирш, а когда узнал, испытал истинное потрясение, и вот почему.
Ровно 50 лет тому назад, в 1957 году, комитет комсомола ЛЭИС с моей подачи объявил любопытный конкурс под названием «Семь чудес света». Участникам предлагалось назвать семь наиболее значительных достижений науки и техники того времени — имелась ввиду, конечно, в основном советская наука и техника. Не помню всех «чудес света», которые я включил в свой список, но прекрасно помню, что на первом месте стояла «Американская система совместимого цветного телевидения NTSC».
Моего имени среди победителей конкурса, конечно же, не оказалось именно из-за NTSC. Позднее, когда меня выбирали в какой-то комсомольский орган, секретарь комитета комсомола пожурил меня — ты, мол, правда, американскую систему в чудеса зачислил, да ну, ладно. Больше никаких неприятностей от NTSC у меня не было — времена пошли не сталинские, ХХ съезд КПСС.
Шли годы. Моя профессиональная карьера сложилась в области цифровой радиосвязи и формально не имела никакого отношения к телевидению. Хотя, наверное, работы Лаборатории ПДИ, которую мне довелось возглавлять на протяжении четверти века, в первую очередь — в области цифровой обработки многочастотных сигналов и цифрового радиовещания, влились в мощный поток изобретений, приведших к современному цифровому телевидению.
Прошло ровно полвека, прежде чем система NTSC, которую я давно забыл, напомнила мне о себе. Оказалось, что Чарльз Гирш, чье имя носит полученная мною награда, был выдающимся американским инженером-изобретателем, стоявшим у истоков системы цветного телевидения NTSC. В 40-е и 50-е годы он работал в известной компании Hazeltine Corporation, которая располагалась в Лонг-Айленде недалеко от Нью-Йорка, буквально в нескольких милях от тех мест, где я живу и работаю сейчас. Эта компания, впоследствии вошедшая в гигантский между
народный электронный концерн ВАЕ, в те годы лидировала в области цветного телевидения.
Так NTSC вновь косвенно вошла в мою жизнь, теперь уже в виде награды!
И я подумал — Господь не покинул меня и через 50 лет вознаградил за честный и наивный юношеский поступок.
На церемонии вручения награды в банкетном зале отеля Hilton я вспоминал те мгновения истинного озарения, которые посетили меня за эти 50 лет. Это было несложно, ибо, увы, мгновений набралось всего лишь четыре.
Озарение Первое
Первое озарение снизошло на меня где-то ранней весной 1964 года в тот момент, когда я проходил быстрым шагом начинающего начальника мимо хорошенькой брюнетки Людочки (начинающие начальники всегда быстро передвигаются, чтобы у подчиненных создавалось впечатление об их чрезвычайной занятости). Людочка вычисляла с помощью электро-механического арифмометра (представляете — тогда еще не было персональных компьютеров) вторые разности каких-то функций по заданию своего руководителя Гриши Меньшикова — впоследствии профессора и зав. кафедрой Ленинградского университета. Гриша доказывал, что с помощью вторых разностей можно упростить хранение функций в цифровых вычислительных машинах.
В моей группе мы тогда во всю занимались фазо-разностной модуляцией, поэтому, глядя не без удовольствия на склонившуюся над арифмометром головку, я на ходу мысленно складывал какую-то ерунду — вот, мол, Людочка уже вторые разности считает, а мы все с первыми не можем разобраться. Однако уже следующая мысль не была полной ерундой — а почему бы нам, собственно говоря, не использовать вторые разности фазы сигнала для передачи информации. Финальная мысль пришла тут же, мгновенно, и она была тем озарением, которое внезапно высвечивает чистый алмаз в ворохе рутинных и бессвязных мыслей, — позвольте, но ведь вторая разность фазы есть не что иное, как вторая производная аргумента гармонического сигнала, которая не зависит от его частоты, а следовательно, это новый метод передачи информации в радиоканалах с эффектом Допплера!
После той вспышки я, теряя начальственную респектабельность, почти побежал к своему рабочему столу, чтобы по быстрее проверить догадку. Да — идея работала, и через неделю я рассказал на семинаре ЛПДИ о новом методе передачи информации, названном фазо-разностной модуляцией второго порядка или кратко ФРМ-2. Помню, как Лева Рахович, помолчав, сказал: «Это здорово сильно!». Слово «сильно» Лева применял крайне редко, и означало оно высшую степень одобрения.
Дальше все было делом техники. В 1965 году я получил Авторское свидетельство СССР № 177450 на изобретение ФРМ-2 с приоритетом от 5 октября 1964 года, в 1966 году описание метода было опубликовано в «Трудах ЛЭИС», а в 1967 году — в монографии «Фазоразностная модуляция» издательства «Связь».
ФРМ-2 почти сразу вызвала обширный интерес. Помню, как молодой инженер из Нижнего Новгорода Слава Писарев прямо сказал мне: «Я хотел бы быть первым, кто внедрит ФРМ-2 в авиационную связь». Потом, в конце 60-х и в 70-е годы он вместе с молодыми инженерами из Горьковского НИИ Радиосвязи довел ФРМ-2 до промышленного освоения, а сотрудники его группы получили за эту разработку очень престижную в то время премию Ленинского комсомола. Талантливые инженеры Слава Писарев, Володя Решемкин и Коля Сидоров защитили кандидатские диссертации по ФРМ-2 под моим научным руководством.
В 2006 году Коля Сидоров приезжал по своим производственным делам в США, и один из моих друзей в Мотороле дал ему мой телефон. Мы много вспоминали те годы, и я восстановил контакты с нижегородской ветвью моей научной школы. Володя Решемкин даже прислал мне лаконичный отчет — трогательный до слез:
«Решемкин Владимир Константинович родился 18.07.1944 года. В период 1974—1976 учился в заочной аспирантуре ЛЭИС под руководством Окунева Ю.Б. В 1977 году с помощью Юрия Борисовича защитил в Военной академии связи им. Буденного кандидатскую диссертацию по тематике ФРМ. Через 3 года присвоили ученое звание старшего научного сотрудника. Работаю в НПП «Полет» в должности начальника научно-исследовательского отделения. Направление работ: специальные бортовые комплексы технических средств. Заместитель главного конструктора и главный конструктор по нескольким темам. Трудовые подвиги отмечены присвоением: 1. Заслуженный конструктор России; 2. Почетный радист; 3. Орден «Почета»; 4. Премия Ленинского комсомола.
Юрий Борисович!
Спасибо огромное Вам за мое обучение.
Во многом благодаря Вам я чего-то достиг в этой жизни. Счастья Вам и здоровья.
Володя Решемкин».
В 70-е и 80-е годы инженеры и ученые из России, Великобритании, США, Италии, Канады, Израиля, и даже из Королевского университета в Саудовской Аравии опубликовали десятки работ по теории ФРМ второго порядка и множество патентов на соответствующие методы и системы. Первая теоретическая работа по ФРМ-2 за рубежами СССР появилась в 1978 году (M. Pent) в специальном журнале по авиационной цифровой связи. Примерно в то же время в Великобритании был выдан патент на изобретение ФРМ-2 — удивительно сознавать, что мы опередили всех более чем на 10 лет!
Приехав в США, я узнал от моего друга профессора Семена Флейшера, который опубликовал вместе со своими аспирантами несколько работ по помехоустойчивости ФРМ-2 в каналах с замираниями, о неизвестных мне публикациях американских ученых в области ФРМ-2 конца 80-х и начала 90-х годов. Он же посоветовал посмотреть фундаментальную монографию по технике цифровой связи «Digital Communication Techniques», опубликованную в 1995 году тремя учеными из знаменитой Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Lab) в Пассадене, Калифорния, — так я заочно познакомился с выдающимся американским ученым в области цифровой связи, доктором Марвином Саймоном из JPL — моим научным двойником.
Семен Флейшер рассказал мне прелюбопытную историю. Оказывается с конца 80-х годов JPL проводила, не зная наших результатов, независимые исследования в области ФРМ-2, и Марвин Саймон готовил публикацию своих результатов в новой монографии. На какой-то конференции он встретил Семена, и тот рассказал ему о моих работах в этой же области. После этого разговора Марвин вынужден был перевести на английский язык наши работы 70-80-х годов и переписать заново одну из глав своей книги.
С волнением открывал я Главу 8 книги Марвина Саймона «Digital Communication Techniques», полностью посвященную ФРМ-2. В преамбуле я прочитал:
«С исторической точки зрения идея использования разностей фазы высокого порядка при модуляции и обработке сигналов была
впервые высказана русскими учеными в начале 70-х годов... Поскольку работы русских авторов малоизвестны в США, и фактически книга Окунева является единственным учебным пособием, в котором излагается теория приема сигналов ФРМ высокого порядка, мы приложим все усилия, чтобы познакомить читателей с этими работами...».
Далее в главе приводились обширные выдержки, схемы и графики из наших публикаций 70 — 80-х годов. В связи с работами по ФРМ-2 в списке литературы упоминались советские ученые Л.М.Финк, В.А.Писарев, В.К.Решемкин, Н.М. Сидоров, Р.Э. Гут, В.И. Коржик и К.Н. Щелкунов.
Тогда я подумал, что волна, вызванная всплеском весеннего озарения в далеком 1964 году в невзрачных лабораторных помещениях старинного здания на берегу реки Мойки в Ленинграде, продолжает свое странствие по миру без малейшего моего участия, — вероятно, это и есть признак истинности того озарения.
Озарение Второе
Моя вторая находка была не такой яркой, как ФРМ-2, да и имя мое нигде не упоминается в связи с этим новым направлением в теории обработки сигналов, но в том то и дело, что истинные озарения остаются таковыми вне зависимости от внешнего успеха и признания. А случилось это вот как...
В 1984 году мы со Львом Матвеевичем Финком опубликовали в журнале «Радиотехника» статью «Помехоустойчивость двоичных систем с ФРМ второго порядка при различных методах приема». В то время считалось совершенно очевидным, что с увеличением порядка разностей фазы передаваемого сигнала помехоустойчивость приема ухудшается, поэтому ожидалось, что вероятность ошибки при ФРМ-2 будет больше, чем при ФРМ-1, и вопрос был только в том, насколько больше. Полученный нами результат поначалу озадачил нас самих, ибо у нас всё получалось наоборот — при некогерентном приеме система с ФРМ-2 имела лучшую помехоустойчивость, чем система с ФРМ-1. Однако строгий математический результат есть неоспоримый факт, и тогда мы вместе с моим аспирантом Н.М. Сидоровым применили алгоритм приема сигналов ФРМ-2 на трех посылках к приему сигналов ФРМ-1 на двух посылках и пришли к ошеломляющему результату: вероятность ошибки оказалась меньше, чем в классической теории оптимального некогерентного приема. Этот результат был опубликован в статье «Помехоустойчивость некогерентного приема сигналов с ФРМ» в журнале «Радиотехника» в 1985 году.
Поначалу мы рассматривали полученные результаты как исключительно частные случаи и не видели возможности их обобщения, но однажды, где-то на стыке 1984 и 1985 годов, меня внезапно осенило — это не частный случай, а не что иное, как новый закон теории оптимального приема сигналов, который гласит: удлинение интервала некогерентной обработки при неизменной длительности посылки сигнала уменьшает вероятность ошибки даже в тех случаях, когда сигнал не имеет никакой избыточности, и по мере увеличения интервала обработки вероятность ошибки стремится к пределу, соответствующему идеальному когерентному приему.
Я тут же рассказал об этой догадке Л.М. Финку. Поначалу он отнесся к ней прохладно — ведь это противоречило им же доказанной теореме о невозможности уменьшения вероятности ошибки путем удлинения обработки безизбыточных сигналов с фиксированной длиной посылки. Я возражал, что теорема относится только к идеальной когерентной обработке. В конце концов, Лев Матвеевич согласился со мной, и мы договорились подготовить программную статью по этой проблеме. Не помню уже, что помешало нам сделать это.
Время летело, текущие дела и заботы заслоняли важное и вечное, да к тому же нежданно пришли тяжелые утраты. В последние дни 1987 года внезапно умер мой лучший друг и соратник по лаборатории со дня ее основания Виктор Гинзбург. Накануне я посетил его в кардиологической клинике на Пархоменко. Ничто, казалось, не предвещало трагического финала. Мы говорили о планах на будущее — Витя лидировал тогда в теории сложных сигнально-кодовых конструкций, и все ожидали мощного прорыва в этой новой области кодирования сигналов. А утром мне позвонили — Витя скоропостижно скончался этой ночью от приступа сердечной аритмии... Это была невосполнимая потеря и для меня лично, и для лаборатории, и, позволю себе сказать, для науки. В новом 1988 году тяжело заболел Лев Матвеевич Финк. Так случилось, что Миша Лесман и я были последними, кто посетил его в военном госпитале на Суворовском проспекте перед
роковой операцией. Лев Матвеевич держал нас за руки и не хотел отпускать — наши руки были его последней связью с уходящей жизнью. А потом его увезли в операционную... Все мы в лаборатории тяжело перенесли смерть Л. М. Финка. Неуютно стало заниматься теоретическими обобщениями без этого ученого-мудреца.
Так мы уступили другим исследователям авторство в одном из важных направлений современной теории оптимального приема — теории многосимвольной обработки сигналов.
А в это время на Западе появилась целая серия работ в области некогерентной обработки сигналов на нескольких посылках. В 1987 году P.Y. Kam доказал возможность уменьшения вероятности ошибки путем увеличения интервала обработки сигналов с неизвестной фазой для некодированных сигналов. А в 1990 году D. Divsalar и M. Simon опубликовали в IEEE Transactions on Communications программную статью “Multiple-Symbol Differential Detection of MPSK" — жестко застолбили все это новое направление теории. Так мои научные результаты впервые пересеклись с результатами Марвина Саймона, который, сам того не подозревая, резко обошел меня на повороте.
Я, тем не менее, не оставлял надежды опубликовать работу, обобщающую наши результаты середины 80-х годов, но только перед самым отъездом в США, в конце 1992 года, удосужился отправить в журнал «Радиотехника» статью «Достижение потенциальной помехоустойчивости без непосредственного оценивания неизвестных параметров сигнала». Статья провалялась в редакции несколько лет и была опубликована лишь в 1996 году. В этой статье, переведенной вскоре на английский язык, новый метод обработки сигналов был представлен, пожалуй, более широко, чем в статье Саймона, но с меньшей глубиной. В 1995 М. Саймон включил теорию многосимвольной обработки в учебник «Digital Communication Techniques», а в 1997 я опубликовал свою версию этого подхода в монографии «Phase and PhaseDifference Modulation in Digital Communications».
Сейчас в научной литературе авторство теории многосимвольной обработки сигналов прочно закрепилось за Марвином Саймоном — вполне справедливо, на мой взгляд.
А мне остается утешение — что бы там не говорили, а все же мне первому пришла идея, развившаяся в одно из мощных направлений современной теории оптимальной обработки сигналов. И звездный час того озарения уже никто у меня не отнимет.
Озарение Третье
Во второй половине 90-х годов моя работа в Bell Labs стала рутинной и неинтересной. Почти весь огромный исследовательский центр Bell Labs отошел к новой фирме Lucent Technologies, которая отделилась от AT&T. Глубокая приверженность прежней Bell Labs к фундаментальным исследованиям, давшим миру и транзистор, и интегральную микроэлектронику, и сотовую радиосвязь, и много чего еще, включая открытие реликтового радиоизлучения во Вселенной, — все это уходило в прошлое. Мой первый американский начальник тоже ушел... на пенсию, а его место заняла хваткая, но от науки бесконечно далекая молодая дама. Сам факт появления этой фигуры на руководящей позиции в Bell Labs свидетельствовал о деградации всего организма. Дело дошло до того, что новая начальница предложила мне чинить вышедшую из строя СДМА аппаратуру. Я начал искать другую работу и вскоре по предложению моего институтского товарища Юрия Голдштейна перешел в фирму General DataCom в Коннектикуте. Однако под занавес моей работы в Bell Labs случилось мне испытать дивное чувство, которое я называю моим третьим озарением. А история эта была прелюбопытной...
Как-то один из больших начальников Bell Labs пригласил меня на презентацию некоей начинающей фирмы c прелестным названием «Angel Technologies», что я тут же перевел как «Ангельские технологии». Два молодых энергичных парня, похожих скорее не на ангелов, а на начинающего Мефистофеля, рассказали о самолете, который летает кругами в стратосфере, — парни полагали, что их самолет может обеспечить мобильную связь на территории, значительно большей, чем существующие наземные сотовые станции, и предлагали Bell Labs сотрудничать в этом проекте. Наше начальство отнеслось к самолетной идее прохладно, а мне и моему коллеге Горану Джукничу она чрезвычайно понравилась. Представьте себе антенну высотой в 20 километров — сколько наземных станций сотовой связи заменит приемопередатчик, помещенный на такой высоте. Сверхвысотную антенну может нести и специальный самолет, и аэростат, и управляемый дирижабль. Мы с Гораном начали, едва ли не подпольно, разрабатывать систему мобильной связи на основе высоколетящей аэроплатформы (по-английски HAAP — High Altitude Aeronautical Platform) — так мы называли объект, выполняющий функции
20-километровой антенны. Проблем с HAAP было много — как передавать сигналы на ее борт и обратно, какие нужны наземные средства поддержки, и, наконец, — какой формы должен быть сотовый кластер на поверхности земли, чтобы не переключать непрерывно мобильные станции при кольцеобразном движении самолета? Мы медленно продвигались вперед, но светлые идеи как-то не приходили. Все замыкалось на рутинных расчетах по уже существующим стандартам.
Л. М. Финк как-то говорил мне — чтобы решить сложную задачу, нужно думать о ней все время, и решение рано или поздно придет. Я так и поступил — думал о HAAP на работе и дома, и предсказание Льва Матвеевича сбылось.
Летним утром 1996 года я, как обычно, ехал на работу из Довера в Виппани в своем старом Понтиаке, купленном на барахолке, и, конечно же, думал о HAAP. Погода была чудесная. Остановившись перед светофором, я посмотрел на утреннее небо в красивых кольцевых завитках легких облаков. Какая геометрическая фигура инвариантна к вращательному движению? — вслух спросил я самого себя и тут же ответил — набор вложенных друг в друга колец! И внезапно плотину прорвало — я ясно увидел и структуру кольцевого сотового кластера, и всю схему новой системы мобильной связи, и даже синхронный многочастотный сигнал, посылаемый с борта НААР. Потом я, сколько ни пытался, но не мог объяснить самому себе, как в течение одной минуты между красным и зеленым цветом светофора, в голове сложилась такая обширная, системная картина.
В страшном возбуждении приехал я в лабораторию и сразу же на доске изложил Горану всю концепцию построения системы HAAP — торопился, опасаясь забыть что-либо из подсказанного Провидением. Мы тут же решили убедить начальство в необходимости патентования идеи и публикации программной статьи. Повыкобенившись, начальство дало свое согласие — это нам стоило включения одной начальницы в соавторы патента и одного начальника в соавторы статьи. Через год в сентябрьском номере журнала IEEE Communications за 1997 год была опубликована наша статья с интригующим вопросительным названием «Осуществление радиосвязи через высоколетящие аэрокосмические платформы: идея, чьё время пришло?». В 1998 статья была переведена на немецкий язык и опубликована в мартовском номере журнала Die Zeitschrift fur Telekommunikationstechnik.
А в 1999 году я и Горан Джукнич получили патент с длинным названием «Sell-clustering arrangement and corresponding antenna pattern for wireless communication networks employing high-altitude aeronautical antenna platform».
В то время я уже работал в другой фирме, занимался совершенно другими проблемами и постепенно забывал НААРовское озарение. Правда, Горан время от времени подкидывал мне публикации по этому вопросу, которых становилось все больше.
Наша публикация 1997 года словно открыла шлюзы в гигантской плотине: начиная с 1998 года, лавина статей и докладов по этой тематике не иссякает, и все эти публикации непременно содержат ссылку на нашу пионерскую статью — по количеству ссылок эта статья превосходит все мои остальные публикации вместе взятые.
Разработка систем мобильной связи на основе стратосферных летающих платформ включена в национальные проекты развития связи Европы, Японии, Кореи, Индонезии и многих других стран, ведущие университеты мира получают правительственные гранты на разработку технологии НААР, крупнейшие фирмы, такие, например, как Lockheed Martin и Boeing, разрабатывают стратосферные платформы для мобильных систем связи будущего. Проектами НААР занимаются Европейское космическое агентство, Национальная аэрокосмическая лаборатория Японии, Британский национальный космический центр, Американское национальное аэрокосмическое агентство НАСА.
Казалось бы, какого признания можно еще желать!
И тем не менее, не оставляли меня сомнения относительно ценности того озарения — ведь пораженье от победы подчас нам трудно отличать. Говорят, что сомнение — лучшее испытание истины. Естественные сомнения на пути к истине дополнялись в данном случае тем печальным обстоятельством, что мой научный двойник доктор Марвин Саймон ни словом не обмолвился о мобильной связи через аэроплатформы. Истинность двух моих первых озарений была подтверждена его собственными результатами и его пристальным вниманием к тем проблемам, а тут — ни слова. Веря в безупречную техническую интуицию Марвина, я невольно спрашивал себя — тянет ли на истинное озарение то, что пришло мне в голову летним утром 1996 года?
В 2006 году ясный, мощный ответ на этот вопрос пришел из статьи группы итальянских исследователей из Технического университета в Турине, опубликованной в февральском номе
ре того же журнала IEEE Communications. В этой программной статье с названием «Интегральное обслуживание через высоколетящие платформы: гибкая система связи», авторы заключают: «Через 8 лет после публикации в 1997 году статьи Джукни- ча, Фрейденфелда и Окунева, в которой впервые в мире была ясно изложена концепция использования высоколетящих платформ для радиосвязи, основанные на этой концепции системы весьма близки к широкому коммерческому использованию».
Нет, остановившись перед светофором на дороге номер 10 из Довера в Виппани в штате Нью-Джерси, не напрасно посмотрел я тем летним утром 1996 года на небо в красивых кольцевых завитках.
Озарение Четвертое
Радиоволна, несущая осмысленную информацию на расстояние, до сих пор вызывает во мне некий сакральный восторг, несмотря на многие годы профессионального участия в разработке радиосистем. Когда я по дороге на работу в пригороде Нью-Йорка разговариваю по мобильнику со своим другом, который в это время в Санкт-Петербурге возвращается с работы в своем автомобиле, меня не оставляет чувство сопричастности с чудом, хотя, конечно, для меня — участника разработки концепции сотовой радиосвязи — ни один элемент этой сложнейшей цифровой системы не является загадочным.
Многие годы моей научной карьеры были связаны с разработкой систем сверхдальней радиосвязи. Поначалу это были системы коротковолновой радиосвязи с дальностью несколько тысяч километров, затем системы геостационарной спутниковой связи с дальностью почти сорок тысяч километров, а в 80-е годы довелось нашей лаборатории участвовать в работах института Прикладной астрономии Академии наук СССР по обработке сигналов от далеких квазаров — здесь уже дальность измерялась не километрами, а световыми годами.
Так получилось в моей американской радиотехнической карьере, что дистанция между передатчиком и приемником из года в год сокращалась, и в 2004 году, перейдя на работу в Symbol Technologies в Лонг-Айленде, я подключился к разработке систем для передачи радиосигналов на расстояние всего в несколько метров — эти новые системы радиосвязи имеют английское название RFID (Radio Frequency Identification), что по-русски можно несколько вольно перевести как идентификация объектов с помощью радиоизлучений.
Тем не менее восхищение работой радиоволн, открытых ровно 120 лет тому назад Генрихом Герцем, не оставляло меня и в этом случае. Как-то я был свидетелем любопытного эксперимента. У открытых ворот обширного ангара был установлен небольшой RFID приемопередатчик, подключенный с одной стороны к компьютеру, а с другой стороны — к антенне, направленной в постранство за воротами. Когда мимо ворот ангара на довольно большой скорости проезжал очередной закрытый грузовик, на экране компьютера появлялся список товаров, находившихся в этом грузовике, включая количество каждого товара и его полную спецификацию! Стоя у компьютера, с волнением наблюдал я за рождением еще одного применения радиоволн и думал: «Как жаль, что этого не видит Генрих Герц — ведь он не верил в практическую полезность открытых им электромагнитных излучений».
Хотя дальность связи в системах RFID измеряется всего лишь несколькими метрами, а подчас даже сантиметрами, сложность разработки эффективных алгоритмов обработки сигналов, излученных пассивным крошечным чипом из наклейки на товаре, ничуть не уступает сложности обработки сигналов космических объектов — мощность отраженного наклейкой сигнала ничтожна, имеющиеся ресурсы для надлежащего кодирования и модуляции этого сигнала близки к нулю, да к тому же распространяется он по непредсказуемым, почти хаотическим путям.
Мои попытки найти какие-то скрытые возможности для повышения эффективности приема этого мизерного сигнала натыкались на дополнительную сложность — нужно было не выходить за рамки действующего стандарта, который был составлен, мягко говоря, не наилучшим образом.
Где-то в апреле 2005 года я уныло рисовал на доске различные формы передаваемого элементарного сигнала, и мне внезапно померещилась в нем какая-то скрытая периодичность. Оживившись и повторив подряд несколько стандартных элементов сигнала, я обнаружил, что полученную последовательность можно поделить иначе, чем это обычно делается, и тогда в ней можно обнаружить новые элементы со скачками фазы, точно отражающими передаваемую информацию. Иными словами — в стандартном сигнале имеется скрытая фазо-разностная моду
ляция, а это значит, что мощность излучаемого сигнала можно уменьшить в два раза по сравнению с той, что требовалась прежде. Я проверил догадку на всех видах сигналов, перечисленных в стандарте, — с небольшой коррекцией идея работала во всех случаях. Я сказал себе: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»
Обычно экономия мощности в два раза достигается применением довольно сложного корректирующего кодирования сигнала. Вообще, чтобы получить такой энергетический выигрыш, идут на значительное усложнение системы. А у меня получилось, что аналогичный результат достигается простым изменением деления принятого сигнала на отдельные элементы. Более того, приемник при этом упрощался по сравнению с описанным в классической теории и по сравнению с тем, как он был реализован у нас на фирме. Я был в полном восторге и 1 августа 2005 года представил начальству доклад под названием «Новый метод обработки сигналов, обеспечивающий двукратный энергетический выигрыш в системах RFID».
Начальство отнеслось к моим изыскам более чем прохладно — слова «вероятность ошибки» и «отношение сигнал-шум» вызывали у него, у начальства, глухое раздражение. В глубине своей раздраженной души оно не желало доверяться «вероятности» и верило, что лично у него, у начальства, никакого «шума» нет. Кроме того, реализация моей идеи требовала вмешательства в уже разработанную аппаратуру, поэтому любые попытки обратить внимание наших инженеров на эту идею рассматривались как подрывные действия, направленные на отвлечение коллектива от текущих практических задач. В те годы руководство фирмы объявило, что главной задачей всех сотрудников является «удовлетворение клиентов». Не подумайте, что я шучу или утрирую, — прямо так и звучал официальный лозунг: «Customer satisfaction!» Я возражал, что этот лозунг, вполне уместный в публичном доме, не может быть концепцией деятельности технологической фирмы — за этот подрыв моральных устоев коллектива меня едва не уволили. Конечно, новыми алгоритмами обработки сигналов невозможно «удовлетворить клиентов», и поэтому мои разработки отправлялись на полку, а точнее — псу под хвост.
Здесь мы сталкиваемся с глобальной проблемой творчества в наше перенасыщенное информацией время — проблемой драматического разрыва между самим актом открытия и признанием открытия окружающим миром. В наше время недостаточно
отделить зерно истины от плевел банальности, нужно еще это зерно, сияющее светом алмаза поначалу только для самого творца, донести до слепых и глухих, не желающих, к тому же, ни видеть, ни слышать, и сделать это подчас труднее, чем отыскать то зерно. Многие ученые, изобретатели, художники и писатели проводят годы в бесплодных попытках обратить внимание на свои шедевры, а те, кому дорога к признанию напрочь заказана, идут ради своих творений на трагические жертвы, на поступки воистину шекспировского размаха. Не удержусь привести здесь яркий пример. Всем известна пьеса «Безымянная звезда» румынского писателя Михаила Себастьяну. Эта трагическая история нежной любви одержимого астрономией бедного провинциального учителя и избалованной столичной красавицы, до сих пор волнующая людей во всех уголках мира, была написана в разгар Второй мировой войны в озверевшей от крови и насилия Европе. Пьеса, однако, не могла быть ни поставлена, ни опубликована по той простой причине, что ее автор, на самом деле, был евреем по имени Иосиф Хектер, а в фашистской Румынии ставить пьесы еврейских авторов запрещалось. И тогда Себастьяну-Хектер совершает ради своего детища полный высокого трагизма самоубийственный поступок — он отдает авторство своему другу-румыну, под чьим именем пьеса впервые ставится в Бухаресте. Аплодисменты достаются другу автора, но зато шедевр спасен от забвения...
Возвращаясь к нашей теме, вспоминаю, что я поначалу остро переживал невостребованность моего изобретения, неоднократно пытался объяснить его окружающим, а потом поутих и перестал тревожить начальство своими новациями. Мне неоткуда было ждать поддержки, и я с горечью думал, что мой славный Марвин Саймон тоже не заметит эту идею — ведь он витает в космосе и вряд ли интересуется мелкотравчатыми системами RFID.
О, как я ошибался — Марвин ничего стоящего не пропускал. Ровно через год после моего четвертого озарения я бегло просматривал апрельский номер журнала IEEE Transactions on Communications за 2006 год, и внезапно обнаружил, что та же парочка — M. Simon and D. Divsalar, которая в 1990 году унесла с собой мой приоритет в теории многосимвольной обработки, опубликовала статью с названием «Одно любопытное наблюдение для определенных линейных кодов в приложении к RFID». Нетерпеливо просматривая статью, я уже не сомневался, что «одно любопытное наблюдение» — это не что иное, как мой метод достижения двукратного энергетического выигрыша в системах RFID. И действительно, на третьей странице — вот он этот метод, тютелька в тютельку. Марвин и здесь не пропустил меня вперед — вновь открыл и опубликовал то, что я уже год пытался продать своей собственной фирме!
Триумфом победы над косностью и неведением отозвалась в душе моей новая работа Марвина Саймона, а поразительная идентичность и даже синхронность мыслей у двух людей, никогда не видевших друг друга и разделенных целым континентом, снова потрясла меня.
Через месяц, в конце мая 2006 года довелось мне участвовать в симпозиуме по теории связи, который проводился в Пуэрто- Рико. Прощальный ужин был устроен прямо на берегу Атлантического океана, под пальмами, освещенными разноцветными фонариками. Энергичная дама — профессор Калифорнийского университета — носила от стола к столу какую-то бумажку, и многие ее подписывали. Я обратился к соседу — что за документ подписывается? Он объяснил, что это письмо с выражением симпатии и моральной поддержки одному известному ученому, который не смог приехать на симпозиум из-за тяжелой болезни, и после некоторой паузы добавил: «Вы, вероятно, его не знаете, его зовут Марвин Саймон».
По моей спине пробежал озноб — оказывается у нас с Марвином был шанс встретиться, но злая судьба не допустила этого. «Что с Марвином?» — сдавленно спросил я соседа. «Точно не знаю — ответил он и добавил — говорят, что у него рак мозга».
Я никогда не встречался с этим человеком, много значительно более близких мне людей страдали от тяжелых болезней, но впервые мне показалось, что я сам заболел.
Не будет больше блестящих саймоновских откликов на неведомые ему озарения неизвестного ему научного двойника, да и озарений, скорее всего, тоже больше не будет — La commedia e finita!
И еще раз - пару слов о словах
Слова ворвались в мою жизнь, наполненную формулами, в тот момент, когда мне было очень плохо, когда дефицит оставшегося времени, казалось, взял меня за горло. Обращение к словам было попыткой вырваться из бездны, отчаянной попыткой успеть сделать самое последнее и необходимое вопреки всему, что этому может положить конец.
Я писал «Письма близким из ХХ века», ясно понимая, что если не напишу этого, то вся история моей семьи канет в лету, что непрерывность поколений прервется, и мои дети и внуки уже никогда не узнают прошлого своего рода.
Может быть, почитание предков для кого-то несущественная мелочь и даже обременительное занятие, но мне всегда казалось, что в знаменитой Пятой библейской заповеди — «Чти отца твоего и мать твою» — самой важной частью является ее концовка — «чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь дает тебе». Здесь таится мысль глубочайшая — не бывать человеческому счастью вне традиций и наследия предков! Ты можешь и, вероятно, должен идти вперед и развивать это наследие, но ты не должен выпадать из него. Многие люди, особенно те, кто пережил крушение духовных традиций и наследия прошлого в таких тоталитарных режимах, как Советский Союз, хорошо усвоили это. Любопытно, что выдающийся русский интеллектуал Петр Струве видел «ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение» России и русского народа отнюдь не в захвате власти большевиками, а в разрыве коренной связи с духовным наследием предков. Жалкие попытки отмежеваться от духовных традиций своего народа мы видим и здесь в Америке, в определенной среде иммигрантов из бывшего Советского Союза. Первый шаг подобного отмежевания состоит в демонстративном отсутствии интереса к жизни прабабушек и прадедушек. Последующие шаги даются уже совсем легко... Впрочем — это тема вне рамок моего краткого отчета.
Если продолжить тему слов, то они дали мне новое и яркое чувство открытия в сфере, далекой от формул, но очень близкой к моему пониманию подлинных духовных ценностей этого мира.
Никогда не забуду охватившее меня острое чувство открытия, вполне сравнимое с научными озарениями, когда совершенно нежданно и негаданно отыскался подлинный и единственный фотопортрет моего прадеда Мовше Окунева, мудрого старца, читающего Тору, — не нарисованный, не придуманный, а жизнью созданный символ народа Книги. Я поместил этот портрет на обложку книги — теперь мой прадед спасен от забвения, и ничто уже не превратит его в пустую черточку между датами рождения и смерти.
В эти дни я снова в ожидания открытия — мои друзья из еврейских религиозных кругов Квинса и Бруклина, прочитав мою книгу, пошли дальше и, судя по всему, нашли в хасидской лите
ратуре обширные материалы о моем другом прадеде — люба- вичском раввине Давиде Якобсоне. Их поиск еще не завершен, но начало обнадеживает...
Эту вдохновляющую жизненную силу дали мне не формулы, а слова.
Слова необычайно расширили сферу моего общения. Благодаря своим книгам я познакомился с Игорем Ефимовым, Семеном Резником, Юзом Алешковским, Михаилом Хазиным и многими другими талантливыми русскими писателями. Я познакомился со многими читателями моих книг, которых без всякой натяжки хотелось бы назвать выдающимися интеллектуалами. Их глубинный анализ, в том числе критический, был не просто полезен для меня — подчас он формировал мои новые представления о том, что, казалось бы, уже многократно обдумывалось.
Ну и, конечно, слова принесли мне ни с чем не сравнимую радость человеческих открытий. Их было немало, но вот одна из историй — она не покажется вам скучной, если вы дочитаете ее до конца.
В «Письмах близким из ХХ века» я упоминал Михаила Окунева — внука Гершена Окунева, родного брата моего дедушки Исаака Окунева. Получалось так, что мы с Михаилом Окуневым имели общего прадеда — Мовше Окунева.
Никаких сведений о судьбе Михаила мне добыть не удалось. По-видимому, он вместе со всей семьей погиб от рук нацистов в Белоруссии или Литве — так сказали мне его питерские родственники. Казалось, что эта ветвь нашего семейного древа прервалась навсегда, мои надежды найти молодых потомков Гершена с фамилией Окунев не сбылись, и я с грустью писал: «На этой высокой, минорной ноте я заканчиваю историю ветви витебского провизора Гершена Окунева. Его потомки рассеялись по миру и смешались с другими народами. В их зыбкой памяти все реже туманно маячит далекий образ еврейского предка — гершеновская ветвь растворяется, чтобы исчезнуть навсегда».
Теперь по прошествии семи лет я прошу прощения у потомков Гершена за эти слова, ибо они оказались слишком поспешными и неправильными. И тем не менее, именно эти слова моей книги помогли найти казалось бы навсегда исчезнувшего Михаила Окунева.
Вот продолжение этой невероятной истории.
Книга попала к моей дальней родственнице Софье Окуневой-Павловой, давно уже уехавшей в Израиль вместе с дочерью
Анной. Я помнил эту красивую девушку по давним встречам в Ленинграде и был очень рад ее звонку из Израиля — каким-то чудесным образом материализовались слова из моей книги: «Надеюсь, что если не я, то эта книга найдет Софью и Анну в Израиле». Книга действительно нашла Софью в небольшом израильском городе Бейт Даган, а она нашла меня, — обыденная история. А вот дальше события развивались в жанре фантастики. Оказывается, Софья показала мою книгу своей знакомой из соседнего городка Кфар Хабад — религиозной израильтянке с очень красивым именем Рина-Элиза Персико, и та признала, что упомянутый в книге Михаил Окунев есть не кто иной, как ее отец, живущий в Чикаго!
Говорят, что такое бывает только в романах.
Можете себе представить, с каким волнением я звонил в Чикаго. Мои неуклюжие попытки объяснить наши родственные связи в сочетании с моим скверным английским произвели на Михаила неблагоприятное впечатление. Вероятно, он поначалу решил, что какой-то иммигрант из России вымогает у него деньги и пытается всучить свою книгу. Однако, в конце концов, мне удалось объяснить Михаилу три вещи: первое — что я так же, как и он, имею фамилию Окунев; второе — что я написал книгу мемуаров, где рассказывается о его родственниках; и третье — что я хочу подарить ему эту книгу, то есть прислать ее бесплатно!
В конце концов, Михаил дал мне свой адрес, и я послал ему книгу с дарственной надписью. Прошло несколько недель, прежде чем я получил ответный звонок. Чувствовалось, что Михаил едва сдерживает рыдания — он узнал на одной из фотографий свою тетю, он узнал из книги, что он в мире не один, он узнал, что в России у него есть близкие родственники.
Михаил рассказал мне страшную историю своей семьи — слепок с трагической судьбы европейского еврейства. Его мать Песя, отец Пинхус и двадцатилетний старший брат Берл были убиты нацистами в 1941 году в Понарах близ Вильнюса — в лесном урочище, месте массовой бойни, где было уничтожено 70000 (семьдесят тысяч!) евреев. Понары вошли в историю одним из самых жутких символов моральной деградации человеческого рода в ХХ веке. Второй старший брат Михаила Гершон был убит нацистами в Эстонии в 1944 году — ему было тогда 19 лет. Так силы мирового зла расправились с семьей Пинхуса Окунева — сына витебского провизора Гершена Окунева.
Михаил выжил один из всей семьи — чудом выжил. В 1941 году ему было 9 лет. Мальчику удалось сбежать из гетто. Трудно представить себе что-либо более жуткое и трагичное, чем скитания девятилетнего сироты по оккупированной немцами Литве, в атмосфере убийств и ненависти. К счастью, его, в конце концов, приютили партизаны, и в 13 лет он стал бойцом партизанского отряда. После войны Михаил оказался в Польше, оттуда уехал учиться медицине в Германию. В 1956 году он приехал в США и женился в Чикаго на американке Беверли Кейлс. Многие годы Михаил лечил людей в своем медицинском офисе в Чикаго, он и сейчас продолжает работать.
Весной 2003 года мы встретились с Михаилом Окуневым в Вермонте, где на Песах собралась вся его семья. У Михаила и Беверли сын Пол (Пинхус) — известный профессор и руководитель крупнейшей университетской клиники в области медицинской радиологии, и три дочери — Пола, Рина, и Рэйчел. У них много внуков, большей частью в Израиле. После нашей встречи в Вермонте Михаил и Беверли съездили в Россию, в Санкт-Петербург, где Михаил впервые встретился со своими двоюродными братьями и сестрой. Одна из его племянниц из Санкт- Петербурга гостила недавно у него в Чикаго.
Вот такая история. Михаил думал, что после войны он остался один на всем белом свете. Моя книга помогла ему найти близких родственников, а мне — утерянную ветвь нашей семьи. Может быть, этот результат посильнее любого моего научного озарения. И даже если бы он был единственным, то и тогда не пожалел бы я о тех бессонных ночах, когда сложился замысел «Писем близким из ХХ века».
Так что — не верьте тем, кто утверждает, будто семейные мемуары не имеют никакого практического смысла. Все зависит от того, как понимать этот пресловутый практический смысл и с какой высоты на него смотреть.
Несколько мыслей о теории относительности вместо заключения
«В общей теории относительности нет единого абсолютного времени; каждый индивидуум имеет свой собственный масштаб времени, зависящий от того, где этот индивидуум находится и как он движется» — так объясняет одно из основ
ных положений теории относительности Эйнштейна выдающийся современный астрофизик Стивен Хокинг, возглавляющий знаменитую ньютоновскую кафедру математики в Кембридже.
Меня всегда поражало, как этот физический закон хорошо описывает духовную жизнь каждого человека, масштаб его личного времени, четко и однозначно зависящий от местопребывания человека и от того, что и как он делает, как и куда движется, — надеюсь, что мой рассказ о прожитой жизни, достаточно ясно иллюстрирует этот вывод.
В теории относительности известен так называемый парадокс близнецов. Один из двух братьев-близнецов отправляется в далекое и рискованное путешествие на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света. Другой близнец, менее авантюрного склада, остается и спокойно живет на Земле, позволяя себе разве что поездки на дачу и туристические экскурсии по злачным местам планеты. Когла близнец-путешественник возвращается еще сравнительно молодым человеком из Космоса на родную Землю, он с удивлением узнает, что не только его родной брат, но и дети, и внуки, и даже правнуки брата давно умерли своей естественной смертью, а он сам вернулся в совершенно другую историческую эпоху, в далекое будущее. Вот такая печальная история вытекает из теории относительности.
Другими словами — с приближением скорости движения объекта к скорости света, течение времени для этого объекта замедляется.
В жизни человека аналогичный закон действует с противоположным знаком — с увеличением активности человека, с ускорением движения вперед, в широком смысле этого слова, течение его личного времени убыстряется. Чем больше человек создает, чем больше творческих решений он принимает, тем быстрее летит его жизненное время. Текущего времени просто ни на что не хватает, и это создает дополнительную иллюзию быстротечности всего происходящего вокруг. Только у тех, кто ничего не делает и ни к чему не стремится, время течет медленно, ибо его с избытком хватает на все.
Многие немолодые люди хорошо знают, как с годами убыстряется течение времени. Кажется, буквально вчера встречали приход Третьего тысячелетия, радовались, а то и удивлялись, что дожили до этой эпохальной даты, а глянь — на дворе уже 2007-й год.
Как это можно объяснить? Очень просто с помощью теории относительности.
В молодости каждому представляется, что впереди у него неограниченное время, и если что-то не успеваешь сделать прямо сейчас, то это что-то запросто можно перенести на будущее — поэтому в молодости дефицит времени не ощущается, и оно, время, течет очень медленно.
С годами ограниченность времени надвигается на нас неумолимой стеной, за которой ничего уже не будет и за которую ничего нельзя перенести. Если не успеваешь сделать что-то важное прямо сейчас, то, скорее всего, не сделаешь это что-то никогда. Дефицит времени душит замыслы, время течет стремительно, не оставляя просветов для их исполнения.
Каждый шаг вперед открывает множество новых дорог и тропинок, по которым хотелось бы пройти, которые хотелось бы понять и исследовать. Как говорил античный философ — чем больше я знаю, тем больше незнаемое. Мы можем добавить — чем больше задуманное, тем больше останется несделанным, ибо время бежит все быстрее, оставляя все меньше резерва для задуманного и приближая нас к неумолимому финишу.
У меня обширные планы и по словам, и по формулам, но я ясно понимаю, что все задуманное сделать уже не успею. И тем не менее, остановки не будет — что Господь позволит, то непременно сделаю.
Сентябрь 2007, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
Формулы:
«Цифровой дифференциальный анализатор», Связьиздат, 1962. «Теоретические основы приема сигналов с ФРМ», изд-во ЛЭИС, 1964.
«Фазоразностная модуляция», изд-во Связь, 1967. «Широкополосные системы связи с составными сигналами», изд-во Связь, 1968.
«Основы теории разделения и кодирования сигналов», часть 1, изд-во ЛЭИС, 1968.
«Аппаратура передачи дискретной информации МС-5», изд-во Связь, 1970.
«Основы теории разделения и кодирования сигналов», часть 2, изд-во ЛЭИС, 1970.
«Опыт оптимального проектирования систем связи», изд-во Знание, 1971.
«Системы связи с инвариантными характеристиками помехоустойчивости», Связь, 1973.
«Принципы системного подхода к проектированию в технике связи», изд-во Связь, 1976.
«Теория фазоразностной модуляции», изд-во Связь, 1979. «Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами», изд-во Связь, 1991.
«Phase and Phase-Difference Modulation in Digital Communications», Artech House, Boston-London, 1997.
Cлова:
«Дело шестнадцати», документальная повесть с песнями и стихами Владимира Селянинова, С-Петербург, 2002.
«Письма близким из ХХ века», Мемуары, публицистика, изд-во Искусство России, ISBN 50900786-80-3, С-Петербург, 2002.
«Долгое несчастье Билла Стресснера», Антиутопия, журнал русской фантастики Бориса Стругацкого "Полдень-ХХ! век”, №4, 2003.
«Ось всемирной истории», Публицистика, изд-во Искусство России, ISBN 5-98361-002-3, С-Петербург, 2004.
«The Lost War», Anti-Utopia, AuthorHouse, ISBN 1-4184-99625, Library of Congress: 2004097187, USA, 2004.
«Ось всемирной истории», Изд-во Эрмитаж, ISBN 1-55779155-4, Library of Congress: 2005055132, USA, 2006.
«The Axis of World History», Xlibris Corporation, ISBN 1-42571712-8, Library of Congress: 2006904719, USA, 2006.
«Старческая болезнь левизны в либерализме» Памфлет, изд-во Поверенный, ISBN 93550-073-6, Рязань, РФ, 2006.
«Left-Wing Liberalism: A Senile Disorder», Pamphlet, Xlibris Corporation, ISBN 1-4257-4541-5, Library of Congress: 2006911154, USA, 2007.
«Проигранная война», Антиутопия, изд-во РЕТРО, Санкт- Петербург, 2007.
«Слово o Владимире Жаботинском», Очерк (к 125-летию со дня рождения), опубликован в США, Израиле, Австралии, Германии.
«Шестидневный аккорд истории Библейского масштаба», Очерк (к 40-летию Шестидневной войны), опубликован в США, Израиле, Болгарии, Германии.
«Смерть Велижского Резника», Очерк (к 60-летию Победы над фашизмом), опубликован в США, Израиле, Австралии, Германии.
«K 75-летию Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», Очерк, опубликован в России, США, Германии.
Юрий Окунев