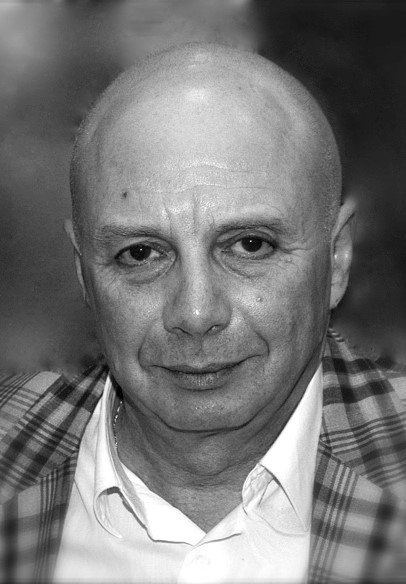О Марии Дешалыт – музыканте, учителе, личности
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
Ф. Ницше
Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностию – были.
В. А. Жуковский
Моя мама Мария Юрьевна Дешалыт родилась 3 апреля 1920 года в Москве в районе Чистых прудов. Там же спустя 26 лет появился на свет и я.
Родители мамы, отец Юрий Савельевич и мать Софья Борисовна, родом из черты оседлости Белоруссии (отец из Витебска, мать из Орши), воспитывались в многодетных семьях и получили неплохое среднее образование, окончив гимназии. Софья Борисовна получила ещё и диплом стоматолога.
Послереволюционные события привели в 1919 году молодую семью в столицу, в многонаселённую коммуналку. Отопление было дровяным, готовили в общей кухне на примусах, на двадцать с лишним человек соседей одна уборная и одна ванная, мыться в которой можно было строго по расписанию. В таких бытовых условиях прошли мамино детство, отрочество, молодые и зрелые годы.
Хотя её родители были людьми небольшого достатка и крайне далёкими от искусства (отец работал мелким служащим на кирпичном заводе, мать – стоматологом в медсанчасти обувной фабрики «Парижская коммуна»), дома сразу появилось пианино, а скоро и рояль. Юрий Савельевич был от природы очень музыкальным, прекрасно танцевал. Ему очень хотелось, чтобы его любимая дочка получила бы музыкальное образование и играла на рояле.
Мечта сбылась: в восемь лет она поступила в музыкальную школу на Покровке, у Лялина переулка, недалеко от дома (эта школа и сейчас существует и носит имя К. Н. Игумнова). Её преподавателем и первым истинным Учителем Музыки стала незадолго до этого окончившая Московскую консерваторию Серафима Семёновна Никифорова, которая была фанатично предана музыке и своим ученикам. Семьи у неё не было, и она всю себя отдавала работе. В дальнейшем Серафима Семёновна преподавала и в ЦМШ, и в Гнесинском училище, где длительное время была заведующей фортепианным отделением, у неё была масса сильных и талантливых учеников, но больше всех других она любила и выделяла из общего ряда одну Муру Дешалыт, только её фотокарточка на домашнем рояле была в течение всей долгой жизни Серафимы Семёновны на самом видном месте.
Почему – то среди коллег по фортепианному цеху она слыла «сухарём». На самом деле её отличало тщательнейшее отношение к музыкальному тексту, авторским указаниям, динамическим оттенкам, особенностям характера произведения. Она была абсолютно бескомпромиссна при оценке того или иного ученика или зрелого пианиста, не обращая внимания на авторитеты и «громкие» имена. При работе в классе ни одна мелочь не оставалась без её внимания, филигранной отделки и тщательной шлифовки. Мура Дешалыт обожала Серафиму Семёновну, очень старалась отвечать её высоким требованиям, понимая своего учителя с полуслова, полунамёка, и быстро добивалась нужного звукового результата.
Успехи не заставили себя ждать: уже в первом классе за лучшее среди учеников музыкальных школ Москвы исполнение ре – мажорного концерта Гайдна она получила специальный приз: статуэтку Моцарта (Гайдна, видимо, не нашлось), которая до сих пор бережно хранится у нас дома.
С отличием окончив музыкальную школу, Мура Дешалыт поступила в Гнесинское училище к своему любимому педагогу, которая тогда же там начала преподавать. Учёба в Гнесинке была столь успешной, что студентка, не дожидаясь окончания четвёртого курса училища и получения диплома, решила сразу после третьего курса поступать в Московскую консерваторию. Это решение поддержала С. С. Никифорова, которая подготовила с ней программу поступления.
В июне 1938 года были блестяще сданы вступительные экзамены по специальности и всем другим дисциплинам, что с запасом обеспечило проходной балл. Однако фамилии Дешалыт в списке поступивших на первый курс почему – то не оказалось. Причиной тому было следующее.
Елена Фабиановна Гнесина, одна из основательниц Гнесинского училища и его директор, пользовавшаяся огромным авторитетом в музыкальном мире, категорически возражала против досрочного поступления М. Дешалыт в Московскую консерваторию. Аргументация была простой: пусть эта студентка не будет исключением и выскочкой, а как все другие, закончит четвёртый курс училища, получит диплом об его окончании и только после этого поступает. Слова Е. Ф. Гнесиной не расходились с делом: она не поленилась пойти в приёмную комиссию и добилась желаемого результата.
А дальше эта история получила неожиданное продолжение со счастливым концом.
Мама так её вспоминала. «Я сидела на ступеньках Малого зала консерватории и безудержно плакала. Мой приятель Эмиль Минкин, идейный комсомолец и правдоискатель, пытаясь меня утешить и найти выход из положения, посоветовал пойти на приём к Валерии Владимировне Барсовой и попросить её о помощи и поддержке (В. В. Барсова – замечательная оперная и камерная певица, солистка Большого театра, народная артистка СССР, видная общественная деятельница, депутат Верховного Совета РСФСР первого созыва. Её почитателем и покровителем был И. В. Сталин).
Через пару дней, предварительно записавшись, пошли. Приёмная Валерии Барсовой располагалась в помещении Колонного зала Дома Союзов, там стоял великолепный концертный рояль. Валерия Владимировна внимательно меня выслушала и попросила поиграть. Вся вступительная программа была у меня «в руках», и я с удовольствием её исполнила. В. Барсова, сама прекрасная пианистка, была в восторге и обещала непременно помочь. В тот же день всё было решено, а ещё через пару дней вышел приказ о моём зачислении на первый курс. Я и Серафима Семёновна были безмерно счастливы».
Эмиль Минкин, мамин платонический поклонник и ухажёр, вскоре подарил ей свою фотокарточку с надписью: «Страна ждёт лауреатов!». К сожалению, Эмиль не стал свидетелем блистательных успехов пианистки М. Дешалыт: он погиб смертью храбрых в ноябре 1941 года в боях за Москву.
Вот такие были люди – неравнодушные, горячие, верящие, что строят новую замечательную жизнь в родной молодой стране, которой необходимы высокое искусство и его молодые талантливые проводники в народные массы (как тогда говорили и писали в газетах).
Мама попала в класс профессора Самуила Евгеньевича Фейнберга, выдающегося пианиста, педагога и композитора, глубокого знатока творчества И. С. Баха и А. Н. Скрябина. Но проучившись у него один семестр, поняла, что С. Е. Фейнберг весьма далёк от неё по темпераменту и методам работы: слишком образованный и книжный, слишком рассудочный и аналитичный, словом, это не её (сейчас я думаю, что такая оценка была несправедливой, но она была личной, сугубо индивидуальной, а потому оправданной).
В это время в консерватории ярко горела звезда другого профессора – Генриха Густавовича Нейгауза.
В истории русской и мировой пианистической культуры Г. Г. Нейгауз – явление уникальное.
В первую очередь, это была ни на кого не похожая Личность. С его именем тесно связано наше представление о дерзании музыкальной мысли, пламенных взлётах фантазии и чувства, удивительной многогранности и в то же время цельности неповторимой натуры. Всё это абсолютно конкретно ощущалось слушателями на его концертах и в записях.
Его игра была лишена шаблонов и штампов, всё внешнее отступало на задний план, его искусство было исполнено жизни, непосредственности чувства и личного музыкального высказывания. Г. Г. Нейгауз играл предельно искренне, естественно, просто и одновременно горячо, самозабвенно, страстно. Это была ярко выраженная артистическая натура – натура душевного порыва, творческого подъёма, эмоционального горения.
В своей педагогической работе он, помимо показа и замечаний чисто пианистического характера, привлекал весь арсенал музыкальных, поэтических, живописных, литературных, философских связей и ассоциаций. Этот культурный сплав был абсолютно органичным, далёким от фальши, от стремления удивить и очаровать.
Каждый, кто хоть мельком был знаком с Генрихом Густавовичем, уже никогда не мог освободиться от обаяния его личности. А для своих студентов Г. Нейгауз был подлинным кумиром – артист, художник, бесконечно влюблённый в фортепиано. В немногих, но образных, точных словах Генрих Густавович мог выразить многое, зажечь ученика поэтическим словом, а иногда и просто выразительным жестом. Именно этот профессор виделся маме (конечно, интуитивно, а не умозрительно) в качестве её наставника в фортепианном искусстве, учителя Музыки и образца для подражания.
И Мария Дешалыт решила подать заявление в его класс. Генрих Густавович с удовольствием согласился и обещал урегулировать деликатную ситуацию с Самуилом Евгеньевичем. Дополнительно с дипломатической миссией к С. Е. Фейнбергу на его квартиру, которая находилась на Маросейке, недалеко от нашего дома, была откомандирована мама Софья Борисовна.
По её воспоминаниям, войдя в его просторный рабочий кабинет, она была поражена: это был подлинно профессорский кабинет – два концертных рояля, огромная нотная и книжная библиотека, кожаные кресла и диваны, удобный письменный стол. В атмосфере комнаты явственно ощущалась духовная работа хозяина. Контраст по сравнению с убогостью нашей коммуналки был огромным. Выслушав просьбу, Самуил Евгеньевич нервно закурил и после краткого разговора вежливо дал согласие, хотя это и было несомненным ударом по его самолюбию и профессиональной репутации. Так, начиная со второго курса, Мария Дешалыт стала ученицей профессора Г. Г. Нейгауза.
В мае 1941 года случился такой забавный и весьма характерный эпизод. На концерте в Большом зале консерватории мама с большим успехом играла с оркестром концерт Э. Грига. После окончания концерта к Софье Борисовне подошёл Генрих Густавович и, пожав ей руку, растроганно поблагодарил: «Спасибо за дочку!». Чуть позже по дороге домой Софья Борисовна спросила у Муры: «А кто этот человек, который так тепло меня поздравил?». Мама разъяснила, что это её учитель Генрих Нейгауз. Как же далека была Софья Борисовна от процесса обучения дочери и от музыки в целом, что даже не знала, как выглядит её профессор!
В июне 1941 года началась Великая Отечественная Война. Это было тяжелейшее время для всего нашего народа, время суровых испытаний и проверки нравственных качеств и стойкости каждого человека.
Мария Дешалыт в составе оперативно организованных концертных бригад много играла для бойцов Красной Армии, находящихся в отпусках или на переподготовке, больных и раненых в госпиталях Москвы и Подмосковья.
Выступала она и как солистка, и как аккомпаниатор в ансамбле с вокалистами, струнниками и духовиками. Музыканты, играя от всей души, всеми силами старались поднять настроение красноармейцев, облегчить страдания раненых.
В ноябре 1941 года семья Дешалыт уехала из Москвы в эвакуацию в Ташкент. По пути на узловой станции Рузаевка в Мордовии поезд попал под сильнейшую бомбардировку, вагоны превратились в груду металла, семья растеряла весь свой багаж, но все остались живы.
В Ташкенте незадолго до начала войны была открыта узбекская государственная консерватория и специальная музыкальная школа при ней, в которой М. Дешалыт преподавала в 1941 – 42 учебном году.
Осенью 1942 года Мария вернулась в Москву. Актуальнейшим тогда был квартирный вопрос, точнее вопрос сохранения довоенного жилья и прописки. Опустевшие на время эвакуации комнаты самовольно могли занять совершенно посторонние люди, да ещё и с большими семьями. Единственной гарантией сохранения комнаты было постоянное дежурство в ней. Мама попеременно со своей подругой дежурила то в своей комнате, то в комнате своего жениха Теодора Портного, с июля 1941 года находившегося на фронте. Зимой они, полуголодные, дневали и ночевали в неотапливаемых помещениях. Один Бог знает, как можно было в таких условиях остаться живыми и здоровыми, да ещё и сохранить жильё и прописку.
В сентябре 1942 года Мария Дешалыт возобновила занятия на четвёртом курсе консерватории в классе профессора Григория Романовича Гинзбурга Смена педагога была вынужденной и обусловленной драматическими обстоятельствами.
В ноябре 1941 года Г. Г. Нейгауз, как немец по происхождению, да ещё и не уехавший в эвакуацию (значит, ждал прихода фашистов!) был арестован органами НКВД и почти девять месяцев провёл в заключении на Лубянке.
По приговору он был сослан на 5 лет в Свердловскую область, где ему дали возможность преподавать в Свердловской консерватории.
В Москву Генрих Густавович по ходатайству крупных деятелей культуры вернулся в июне 1944 года и сразу приступил к работе. Поэтому в июле того же года Мария Дешалыт заканчивала консерваторию по классу двух совершенно разных по стилю и духу профессоров – Генриха Нейгауза и Григория Гинзбурга.
О последнем необходимо особо сказать несколько слов. Он был любимым учеником выдающегося музыканта, друга Л. Н. Толстого и С. В. Рахманинова, профессора московской консерватории Александра Борисовича Гольденвейзера, который относился к нему как к родному сыну, и одним из наиболее выдающихся представителей московской пианистической школы. Мировую славу ему, как и Л. Н. Оборину, принёс международный конкурс пианистов в Варшаве в 1927 году и последующие триумфальные гастроли. Современники единодушно отмечали высочайший пианистический класс Г. Р. Гинзбурга, его уникальную феерическую виртуозность. Мало кому из его коллег удавалось с такой исчерпывающей полнотой раскрыть выразительные возможности фортепиано, саму природу фортепианного звукоизвлечения.
Записи Г. Р. Гинзбурга – буквально жемчужины пианистического искусства. Кстати, одним из любимых учеников Г. Р. Гинзбурга был Сергей Доренский, ныне профессор, заведующий кафедрой Московской консерватории, воспитавший целую плеяду пианистов – виртуозов, среди которых Николай Луганский, Денис Мацуев, Вадим Руденко, Сергей Нерсесьян, Екатерина Мечетина.
Однажды, когда Мария при подготовке дипломной программы спросила у Генриха Густавовича что – то, касающееся технической стороны исполнения, тот ответил, что это лучше, чем я, покажет Григорий Романович.
Как же маме повезло: в консерватории она занималась у таких выдающихся музыкантов, как А. Ф. Гедике, Л. И. Ройзман, А. П. Островская, Т. Д. Гутман, И. Н. Аптекарев, творческая дружба связывала её с однокурсником, тоже учеником Г. Г. Нейгауза, замечательным пианистом Анатолием Ивановичем Ведерниковым. На протяжении многих лет она вспоминала их всех с любовью и огромным уважением.
За дипломное выступление по специальности Мария Дешалыт получила отличную оценку, причём «гвоздём» программы был первый концерт П. И. Чайковского, выдающееся исполнение которого было единодушно отмечено государственной комиссией.
В это же время художественный руководитель Московского театра Драмы (ранее театр Революции, ныне театр имени Маяковского) народный артист РСФСР Н. П. Охлопков готовил к постановке пьесу Н. Ф. Погодина «Лодочница». В спектакле должны были звучать основные фрагменты первого концерта П. И. Чайковского. Когда Н. П. Охлопков обратился в администрацию консерватории с вопросом, кого бы они могли рекомендовать исполнителем солирующей партии, ответ был однозначным – конечно, Марию Дешалыт.
Художественное и звуковое оформление спектакля, задуманное Н. П. Охлопковым, было совершенно необычным и новаторским для своего времени. Сцена представляла собой огромный заполненный водой бассейн, символизируя безбрежную широту волжского разлива вблизи Сталинграда.
А местом действия спектакля был небольшой островок, располагавшийся в середине бассейна. Главная героиня на надувной лодке перемещалась по водной глади бассейна и высаживалась на берег островка, где разворачивались основные события драмы военного времени. По краям сцены размещались четыре рояля, на которых звучали распевные мелодии первого фортепианного концерта П. И. Чайковского. Мария Дешалыт исполняла солирующую партию.
Н. П. Охлопков, прекрасно разбиравшийся в музыке, считал, что именно этот концерт может в наилучшей степени выразить нравственную силу советского солдата, победившего в тяжелейшей Сталинградской битве. В спектакле участвовали выдающиеся актёры Фаина Раневская, Максим Штраух, Александр Ханов, Борис Толмазов.
К сожалению, судьба «Лодочницы» оказалась несчастливой, и он недолго видел свет рампы. Спектакль был снят с репертуара театра по причине обрушившейся на него идеологической критики в Постановлении ЦК КПСС 1946 года « О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению».
Н. П. Охлопков дал такой отзыв о работе Марии Дешалыт:
«Тов. Дешалыт М. Ю., участвуя в спектаклях Московского Театра Драмы как первая пианистка, проявила себя талантливой художницей, обладающей и мастерством, и вкусом, и пониманием музыки, и великолепной исполнительницей на фортепиано».
Не могу не остановиться здесь на нескольких эпизодах, связанных с Генрихом Густавовичем Нейгаузом.
Как я писал ранее, Г. Г. Нейгауз в 1942 году особым совещанием при НКВД СССР был приговорён к пятилетней ссылке, которую отбывал в Свердловске.
В июне 1944 года ряд выдающихся писателей, композиторов и артистов, среди которых были А. Н. Толстой, С. В. Михалков, Д. Д. Шостакович, В. И. Качалов, И. М. Москвин и другие видные деятели культуры, обратились к председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину с ходатайством о возвращении Г. Г. Нейгауза на постоянное жительство в его квартиру в Москве (в известном доме на ул. Чкалова, ныне Земляной вал, где жили В. П. Чкалов, С. С. Прокофьев, Д. Ф. Ойстрах, Кукрыниксы и другая советская элита) и полном восстановлении в правах, отмечая его выдающиеся заслуги.
Ходатайство было быстро удовлетворено, но дело оставалось за малым: чтобы восстановить прописку нужна была справка с места работы, а в Московской консерватории Г. Г. Нейгауза не восстанавливали из – за отсутствия справки о прописке. Замкнутый круг! Последний штрих в эту трагикомическую историю внесла Мура Дешалыт: она буквально выкрала из ЖЭКа пустой бланк с печатью и вписала туда фамилию и адрес Г. Г. Нейгауза, после чего всё устроилось.
Нескольким встречам мамы с Генрихом Густавовичем я был невольным свидетелем.
31 августа 1961 года. Большой зал консерватории. Гражданская панихида по Владимиру Владимировичу Софроницкому.
Г. Г. Нейгауз был страстным почитателем творчества этого выдающегося пианиста, он любил его индивидуальность, внутренний драматизм, такой непохожий на советские штампы, его импровизационность, глубину и нестандартность интерпретаций, его отношение к пианистическому искусству как к творению демиурга, завораживавшего публику в концертном зале.
Зная о неизлечимой болезни В. В. Софроницкого, Генрих Густавович незадолго до его кончины опубликовал в газете «Советская культура» большую статью о творчестве пианиста под названием «Солнце в музыке» – такую проникновенную, такую искреннюю и личную, такую непохожую на музыковедческие стандарты. Трудно было читать эту исповедь любви без слёз. И вот великого пианиста не стало. Мы с мамой неожиданно столкнулись с Г. Г. Нейгаузом в фойе Большого зала после окончания панихиды – близко – близко. Его буквально трагического, испепелённого горем лица, дрожащего подбородка, синих с красной от слёз поволокой глаз мне никогда не забыть. С мамой он молча расцеловался. Всё было ясно без слов – невосполнимость потери не выразить словами.
Осень 1962 года. Из подъезда Малого зала консерватории нам навстречу быстро выходит Генрих Густавович, как всегда элегантный, в кашне, изящно наброшенном на часть лица, но всё же не закрывающем большого синяка под глазом. Чуть отклонившись от близкого контакта, в связи с деликатностью ситуации, и скрывая всё равно ощутимый запах спиртного, Генрих Густавович говорит: «Здравствуй, Мурочка, дорогая! Целоваться не будем! Увы … я сегодня не в форме.» И стремительно проходит мимо. Мама без паузы шепчет мне на ухо: «Какой фингал! И какой шармёр!».
Весна 1963 года. Концерт в Большом зале консерватории, посвящённый 75 – летию со дня рождения Г. Г. Нейгауза. Более 20 лет назад Генрих Густавович дал студентке Марии Дешалыт принадлежавшие ему очень редкие ноты Прелюдий выдающегося польского композитора Кароля Шимановского, близкого друга и родственника Г. Г. Нейгауза. Студентка Прелюдии выучила и успешно играла, а ноты не то, чтобы заиграла, но отдать забыла. На юбилейном вечере в паузе между поздравлениями мама ноты вернула. Генрих Густавович был очень рад, казалось, навсегда для него потерянным нотам, искренне благодарил и сказал на прощанье: «Мурочка, куда ты пропала, заходи почаще, не забывай меня!».
10 октября 1964 года Г. Г. Нейгауза не стало.
Символично, что дата кончины маминого музыкального наставника и духовного отца совпала с датой моего рождения и датой смерти ее родного отца Юрия Савельевича. Магическое и сакральное совпадение!
Вернемся к описанию творческого пути Марии Дешалыт. После окончания консерватории в результате победы на Всесоюзном конкурсе пианистов в 1945 году она была принята на работу в Мосэстраду и во Всесоюзное гастрольно – концертное объединение (ВГКО) в качестве солистки – пианистки. Мария с юных лет стремилась на большую эстраду, и её мечта наконец сбылась. Началась новая жизнь – жизнь артистки.
И началась активная концертная деятельность.
Чрезвычайно распространёнными в послевоенные годы были так называемые сборные концерты, вечера отдыха и праздничные мероприятия с выступлениями мастеров искусств. В них участвовали ведущие артисты страны самых разных профессий и жанров (классические вокалисты и артисты театра оперетты, инструменталисты, драматические актёры, чтецы, мастера оригинального жанра – фокусники и жонглёры, эстрадные танцовщики и мастера традиционного балета, кукольники, исполнители на народных инструментах и другие). Вели программы концертов выдающиеся конферансье: Николай Смирнов – Сокольский, Михаил Гаркави, Афанасий Белов, Борис Брунов, в интермедиях выступали пары Лев Миров и Марк Новицкий, Александр Шуров и Николай Рыкунин, Мария Миронова и Александр Менакер. Давид Ашкенази блистал в качестве универсального аккомпаниатора и великолепного импровизатора, заполнявшего возникавшие между выступлениями паузы.
Мама участвовала в бесчисленном количестве таких концертов. Небольшая часть сохранившихся афиш и программ представлена на фотографиях.
Вместе с ней выступали ныне легендарные К. Н. Еланская, А. П. Зуева, В. П. Марецкая, Р. Я. Плятт, З. Е. Гердт, В. А. Канделаки, И. А. Любезнов, В. В. Ванин, А. А. Акопян, М. М. Названов, С. А. Мартинсон, Б. Я. Петкер, О. Н. Абдулов, М. М. Плисецкая, Г. П. Вишневская, С. М. Хромченко, С. В. Образцов, М. И. Царёв, А. Л. Абрикосов, А. Н. Грибов, И. В. Ильинский, Г. М. Ярон, Ляля Чёрная, знаменитая балетная пара тех лет Анна Редель и Михаил Хрусталёв.
Почти всегда концерт открывался сольным выступлением Марии Дешалыт, включавшем, помимо других пьес, знаменитый Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна. М. Дешалыт была первой и лучшей исполнительницей этого Вальса в авторском переложении для фортепиано.
В 1952 – 54 годах в нашу квартиру на репетиции часто приходила Галина Вишневская. Хотя мама всегда предпочитала сольные выступления, для Г. Вишневской она сделала исключение, согласившись ей аккомпанировать в составе инструментального трио.
В это время Галина Павловна со своим вторым мужем Марком Ильичом Рубиным переехала из Ленинграда в Москву и совмещала работу в Большом театре с выступлениями в сборных концертах Мосэстрады и ВГКО. Для того, чтобы немного игравший на скрипке М. Рубин, в прошлом директор Ленинградского областного театра оперетты, в Москве не оставался бы без работы, было оперативно организовано трио в составе М. Дешалыт (ф – но), М. Рубин (скрипка), Я. Смоленский (виолончель), сопровождавшее пение Г. Вишневской. Этот коллектив довольно успешно выступал, но просуществовал недолго, т.к. когда Галина Павловна в 1955 году вышла замуж за М. Л. Ростроповича, необходимость как в М. Рубине, так и в трио отпала.
C 1945 по 1961 год Мария Дешалыт много и успешно выступала на главных концертных площадках столицы: в ЦДРИ, в Октябрьском зале Дома Союзов, в Политехническом музее, в ЦДКЖ, в клубе работников госбезопасности, в помещениях Театра оперетты (ныне театр имени Моссовета) и Центрального театра транспорта (ныне Гоголь – центр), в Центральном доме советской армии и во многих других залах. Её выступления всегда пользовались большим успехом у публики, заканчиваясь овациями и криками «браво» и «бис».
В «коронный» репертуар пианистки входили следующие произведения: Л. В. Бетховен Лунная и Патетическая сонаты, В. А. Моцарт Турецкий марш, Ф. Шопен Баллада №1, Революционный этюд, Вальс до диез минор, Скерцо си бемоль минор, Ф. Лист Венгерская рапсодия №12, Грёзы любви, Р. Шуман – Ф. Лист Посвящение, П. И. Чайковский Пьесы из цикла «Времена года», Сентиментальный вальс, Н. А. Римский – Корсаков «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», М. П. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка», С. В. Рахманинов Прелюдия Соль минор, Элегия, А. Н. Скрябин Этюд ре диез минор, С. С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам», Танец рыцарей («Монтекки и Капулетти») из балета «Ромео и Джульетта», А. И. Хачатурян Вальс из музыки к «Маскараду», а также великое множество произведений советских композиторов, исполнение которых было фактически обязательным по разнарядке художественного руководства Мосэстрады и ВГКО.
Не все концертные площадки маме нравились: не по душе были ДК им. Зуева, ДК им. Горбунова, ДК им. Русакова и ряд других. Больше всех других она любила Октябрьский зал Дома Союзов из – за его уникальной акустики и камерной теплоты.
Распределением артистов по концертным площадкам Москвы и Подмосковья, определяя кому, где и когда выступать, заведовал документ под названием «Центральный график» Мосэстрады и ВГКО, где царствовала главный администратор Нина Александровна Богданова, под руководством которой этот график составлялся. Как же много в повседневной работе артистов зависело от её дающей и неоскудевающей руки! Нина Александровна была царственной дамой, безошибочно разбиравшейся в возможностях, пожеланиях и профессиональной форме каждого артиста, а также в их наилучшем сочетании в одном концерте с обязательным учётом разнообразия жанров.
Администрация и основные службы Мосэстрады и ВГКО располагались сначала на Неглинной, потом в Третьяковском проезде (в народе говорили «под аркой»), позже на Каланчевской улице. Главной фигурой во всех этих местах был кассир Алексей Алексеевич. Для артистов любых рангов – от народных, лауреатов Сталинских премий, орденоносцев до рядовых, без званий и наград – сумма прописью имела немалое значение. Поэтому, как и в Рим, все дороги вели к Алексею Алексеевичу. Из – за того, что меня в детстве не с кем было оставить, мама часто брала меня с собой в Мосэстраду и ВГКО, где я был невольным свидетелем виртуозной, поистине артистической работы Алексея Алексеевича. В кассе он сидел на высоченном сиденье перед небольшим окошком, через которое выдавал деньги. Вокруг него в ручной доступности располагались грубо побелённые стеллажи с пачками банкнот. Снаружи в очереди теснились артисты. Подходивший за деньгами громко называл свою фамилию, после чего немедленно на полочке перед окошком появлялась нужная ведомость, где артист расписывался. Далее происходило всегда одинаковое незабываемое действо: как в ускоренной съёмке, мелькали сто, пятидесяти и десятирублёвые купюры с изображением Ильича, за пару секунд Алексей Алексеевич виртуозными пальчиками отсчитывал сумму, немного меньшую, чем в ведомости, затем громко восклицал: «Тебе хватит!», бросал остаток денег на пол, где постепенно росла денежная горка, и приглашал следующего. Интересно, что никаких возражений против такого порядка выдачи зарплаты ни у кого не возникало.
В 1950 году после третьего инфаркта скончался Юрий Савельевич Дешалыт. Мама безумно любила своего отца. Его кончину она переживала столь тяжело, что заболела и некоторое время не могла выступать. С огромным трудом с медицинской помощью ей удалось вернуться к профессиональной работе, однако рана в душе не заживала всю жизнь.
В 1960 году состоялось большое концертное турне М. Дешалыт совместно с другими артистами ВГКО по городам России (Курск, Орёл, Белгород, Куйбышев, Саратов, Ульяновск), посвящённое столетию со дня рождения А. П. Чехова, и цикл литературно – музыкальных вечеров в Доме – музее А. П. Чехова в Москве.
В 1961 году артистическая деятельность Марии Дешалыт завершилась. За время концертной работы у неё было больше 2,5 тысяч выступлений (примерно три концерта в неделю) – поразительная интенсивность!
С юности мама была чрезвычайно горячей и темпераментной личностью, среди её друзей прочно бытовала поговорка: «Марианна Дешалыт вся пылает и горит!». Любимый и наиболее близкий ей по духу Л. В. Бетховен, который и в творчестве и в жизни тоже «пылал и горел», был для неё музыкальным мессией, посланным в мир для преображения и счастья каждого способного слышать человека.
Две неповторимые черты великого Бетховена всю жизнь благотворно резонировали в её душе. Первая наиболее точно, на мой взгляд, определяется оксюмороном «Диктатура Свободы», которую автор – бунтарь гениально выражал в ясной, убедительной и чётко организованной музыкальной форме. Вторая черта – это поразительные прозрения в музыку будущего (романтизм девятнадцатого и постромантизм двадцатого века), в наиболее полной степени проявившиеся в позднем творчестве композитора, не понятом и по достоинству не оценённом его современниками. Несчастливую судьбу Бетховена мама воспринимала буквально как личную трагедию.
Подводя итоги творчества М. Дешалыт как солистки – пианистки, попытаюсь отметить наиболее характерные особенности её исполнительского мастерства и коротко ответить на вопрос, почему её искусство так восторженно воспринимала публика самого различного культурного уровня – от простых, далёких от музыки людей до рафинированных меломанов, слышавших выдающихся пианистов и склонных к сравнительному анализу.
Вот главные штрихи ее творческого портрета:
- правда музыки, которая одновременно есть правда гармонии и сокровенного смысла человеческой жизни. «Без музыки жизнь была бы ошибкой»;
- ярко выраженная индивидуальность – внутренняя и внешняя;
- бескомпромиссное стремление к совершенству (per aspera ad astra);
- искренность и простота;
- интуитивный резонанс со слушателем;
- полный звуковой контроль;
- внимательное прочтение нотного текста в части динамических оттенков, темпа и ритма;
- дифференцированное прослушивание всей форте – пианной фактуры по вертикали;
- певучее выразительное туше;
- цельное чувство формы как в фортепианных миниатюрах, так и в крупных сочинениях;
- физическая раскрепощённость – от крупных мышц спины до кистей рук;
- мощная аккордовая техника;
- любовь к эстрадному исполнительству;
- поиск в любом произведении драматического конфликта (этот приём в дальнейшем постоянно и успешно использовался при работе с учениками).
С 1961 года М. Ю. Дешалыт целиком и полностью отдаёт себя преподавательской работе в различных учебных заведениях: в ДМШ №1 имени С. С. Прокофьева, в музыкальном училище имени Ипполитова – Иванова, в МГПИ имени Ленина, в московском педагогическом училище №7.
Преподавать М. Дешалыт начала ещё с юности – в музыкальной школе при консерватории в Ташкенте, когда была там в эвакуации. И полюбила это дело на всю жизнь.
С начала 50 – х годов мама прославилась в Москве как успешная артистка и преподавательница, поэтому у неё в большом количестве стали заниматься как дети из семей советской элиты (например, Ксана Поспелова, внучка главного редактора газеты «Правда» П. Н. Поспелова, Галя Маркова, внучка министра культуры С. В. Кафтанова), так и из рядовых семей. Количество частных учеников доходило до десяти.
В то время умение играть на фортепиано очень ценилось и считалось неотъемлемым элементом воспитания и культуры. Родители самого разного уровня и достатка хотели, чтобы их дети достигли бы в этом искусстве максимальных высот. Уроки, проводившиеся два раза в неделю, были очень серьезными, а репертуар сложнее, чем в музыкальной школе.
По итогам занятий перед каникулами в нашей квартире, где стояло два рояля фирмы «Беккер», проводился зачёт. Нарядно одетые дети приходили, в основном, с мамами. Атмосфера была торжественной, праздничной и волнительной. Перед исполнением каждый ученик громко объявлял свою программу и садился играть. После всех выступлений проходило нелицеприятное обсуждение, причём высказывались и родители, и ученики. В заключение мама рассказывала о работе каждого ученика в течение полугодия, подводила итоги обсуждения, выставляла оценки и намечала планы на будущее. После коллективного чаепития и слов благодарности дети и родители расходились в радостном и приподнятом настроении. Количество подаренных букетов цветов было таким большим, что ваз не хватало, и часть букетов живописно и естественно располагалась на крышках роялей.
В течение многих лет М. Ю. Дешалыт совмещала работу в Мосэстраде и ВГКО с преподаванием в вечерней ДМШ №1 им. С. С. Прокофьева. Её учениками были вполне взрослые люди, которые, несмотря на возраст, любили музыку с романтической страстью и детской непосредственностью. Своего преподавателя они буквально боготворили. Один из её талантливых учеников Володя Наумов в одну ночь! написал мамин портрет: она за роялем, освещённая романтической луной, исполняет Лунную сонату Бетховена. Под портретом надпись: «Марии Дешалыт – лучшему исполнителю Лунной сонаты. Прозреют ли слепцы, мутнея взглядом? В чём Ваша жизнь?». Какой порыв, какое вдохновение, какая любовь! И какой горький упрёк равнодушному слепому окружению и обыденному быту!
С юности большая личная и творческая дружба связывала маму с её двоюродным братом народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом, основателем школы советского диорамного искусства, автором большого количества панорам и диорам, среди которых получившая мировую известность диорама «Москва – столица СССР». В их характерах было много общего – преданность профессии и твёрдая вера в свою творческую звезду. На обратной стороне своей фотокарточки, подаренной маме 1 мая 1944 года, Ефим Дешалыт написал: «На память дорогой и родной по крови и искусству Муре. Извини за нескромность, но я желал бы дожить до того дня, когда эта мрачная фотография будет иметь историческую ценность!». Время показало, что эта надпись оказалась пророческой.
Среди родителей и близких родственников маминых учеников были известные художники и скульпторы, которые посвятили ей свои работы.
В знак благодарности за занятия с его племянницей Наташей замечательный художник Валерий Стефанович Косоруков, блистательно рисовавший балерин и получивший за это неофициальное звание «русский Дега», написал прекрасный мамин портрет.
Известный армянский скульптор Ваагн Мартиросович Терзибашьян, сын которого Жорик тоже был маминым учеником, изваял её портретный бюст, который ныне стал памятником на её могиле.
Мамина ученица поэтесса Алла Ламм посвятила ей цикл своих стихотворений, одно из которых стало знаменитым благодаря песне композитора Владимира Шаинского «Пропала собака»: «Висит на заборе, колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака, пропала собака, пропала собака по кличке Дружок!».
В Ипполитовском училище любимым её учеником был Вениамин Береславский. Занятия с ней во многом сформировали его от природы незаурядную личность. Впоследствии Береславский, в крещении отец Иоанн, стал основателем и главой нового марианского движения «Богородичный центр» (в настоящее время «Православная церковь Божьей Матери Державная»), автором более 400 книг, переведённых на многие иностранные языки. К столетию М. Дешалыт о. Иоанн написал посвящённое ей эссе, которое приводится в этом сборнике.
Коллега по работе И. В. Лифиц, автор известной книги по ритмике, посвятила М. Ю. Дешалыт обширную статью, которая перепечатана в настоящем издании.
А вот что писал о её педагогической работе крупный российский музыковед и специалист в области психологии фортепианного исполнительства, заведующий кафедрой МГПИ имени В. И. Ленина, доктор педагогических наук, профессор Г. М. Цыпин: «Большой педагогический талант, опыт, мастерство и неизменно добросовестное отношение к своему делу по справедливости поставили М. Ю. Дешалыт на одно из видных мест среди педагогов – музыкантов города Москвы».
В период моего обучения в музыкальном училище имени Ипполитова – Иванова в классе выдающегося музыканта Ильи Романовича Клячко мама ревностно и импульсивно помогала мне при подготовке двух фортепианных концертов для фортепиано с оркестром – первого Д. Д. Шостаковича и первого С. С. Прокофьева, которые я исполнил в Большом зале консерватории и в концертном зале Гнесинского института.
В последние годы жизни мама много душевных сил, нервов и профессионального умения отдавала занятиям с любимой внучкой Леной, которая училась тогда в Гнесинской десятилетке у заслуженного работника культуры РСФСР Валентины Александровны Аристовой.
Решение обучать внучку игре на рояле было принято сразу после её рождения. Ленины музыкальные успехи были предметом огромной маминой гордости, иногда она звонила своим коллегам и друзьям, чтобы они послушали в телефонной трубке робкое исполнение сонатины Клементи или этюда Черни.
В конце школьных каникул на даче обязательно устраивался концерт с многочисленными слушателями, на котором Лена исполняла выученную за лето новую программу. Часто можно было услышать мамино подпевание из публики во время этих концертов, таким способом она хотела помочь Лениному исполнению, передать ей свою энергию и волю.
Когда мамина страстная натура сталкивалась с внучкиным сопротивлением многочасовым занятиям или отсутствием у неё интереса к пьесам, это вызывало у неё реакцию разрушительного и удушливого непонимания. «Это же МУ – ЗЫ – КА!!!», – часто восклицала она. Портрет Бетховена, который всю жизнь висел над её роялем, был молчаливым свидетелем частых домашних баталий. Этот портрет был основой основ, напоминанием о том, к какому идеалу надо стремиться в искусстве и жизни, он как бы измерял качество внучкиных занятий и глубину её отношения к Музыке. После каждого домашнего урока бабушка Мура записывала в школьных тетрадях размашистым почерком свои замечания, которые в полной мере отражали особенности её неповторимой, неравнодушной, бескомпромиссной натуры. Эти тетрадки по сию пору бережно хранятся у нас дома.
Надо отметить, что в итоге внучка оправдала надежды бабушки. Ещё при её жизни Лена выступала в лондонской школе Purcell School c сольными концертами, а в залах Москвы блистательно играла с симфоническими оркестрами первый концерт Д. Д. Шостаковича и достопамятный концерт Э. Грига.
Позже Лена стала профессиональной пианисткой, окончив с отличием Московскую консерваторию, а затем ассистентуру – стажировку в классе профессора Елены Ивановны Кузнецовой, лауреатом многих престижных международных конкурсов, таких как «Классическое наследие» в Москве, международного конкурса в Порту (Португалия), конкурса имени Александра Тансмана в Лодзи (Польша), работала в оперном театре в Хьюстоне (штат Техас, США), выступала соло, с оркестром и в камерных ансамблях на таких площадках, как театр Колон в Буэнос – Айресе, Большой и Малый залы московской консерватории, Московский Дом Музыки, штаб – квартира Организации Объединенных Наций (Нью – Йорк, США), дом – музей Фредерика Шопена (Желязова – Воля, Польша) и многих других. Увы, бабушка не дожила до этих замечательных успехов внучки.
С благодарностью к бабушкиным урокам Лена и сегодня продолжает кропотливо возделывать всходы, посеянные бабушкой.
Об основных педагогических принципах М. Ю. Дешалыт можно составить достаточно полное представление по её методическим работам и многочисленным отзывам учеников, некоторые из которых приведены в этом издании. Её уроки с учениками всегда были личными отношениями «последней» правды, и потому самый малоспособный, душевно чёрствый и пианистически слабый ученик фантастическим образом преображался и начинал играть убеждённо, глубоко и органично, без «пустых» бессодержательных нот.
Мама никогда не учила «вообще», вся её работа была целиком ориентирована на конкретного ученика, конкретного композитора, конкретное произведение, любой урок был наглядной иллюстрацией этого принципа.
Мария Дешалыт была необыкновенно выразительной и яркой личностью, натурой страстной, глубокой и внутренне, а иногда и внешне, драматичной. Забыть такую личность невозможно. Главным её жизненным и педагогическим кредо была горячая, не тёплохладная любовь к музыке и своим ученикам, полная самоотдача и высочайшая требовательность. Рояль был её алтарём, а исполняемая на нём Музыка – исповедью, причастием и делом всей жизни.